 |
Р. Рорти. С.Тулмин. Ф.Франк. Оглавление
|
|
|
|
Р. Рорти
Представление о том, что существует автономная дисциплина, называемая философией, отличная одновременно от религии и науки и в то же время опирающаяся на них, — совсем недавнего происхождения. Когда Декарт и Гоббс осуждали «философию схоластов», они не полагали, что предлагают в качестве замены новый и лучший вид философии — более удовлетворительную теорию познания, или лучшую метафизику, или лучшую этику. Подобные различия между «областями философии» еще не были проведены. Идея самой «философии», в том смысле, в котором она понимается, начиная с XIХ века, когда ее предмет стал стандартным предметом образования, еще не существовала. Оглядываясь назад, мы считаем Декарта и Гоббса «зачинателями новой (modern) философии», но они сами рассматривали собственную культурную роль сквозь призму < …> «войны между наукой и теологией». Они воевали (хотя и с благоразумной осторожностью) с целью сделать интеллектуальный мир более безопасным для Коперника и Галилея. Они не считали, что предлагают «философские системы», и рассматривали свой труд как вклад в процветание исследований по математике и механике, а также в освобождение интеллектуальной жизни от церковных институтов. Гоббс определял «философию» как «познание, достигаемое посредством правильного рассуждения (per rectаm radiocinationem) и объясняющее действия, или явления, из познанных нами причин». У него не было желания отделять сделанное им от того, что называлось «наукой». Только с Кантом пришло различие между наукой и философией. Пока не была сломлена власть церкви над наукой и образованием, энергия людей, которых мы считаем «философами», была направлена на демаркацию своей деятельности от религии. Только после того, как эта битва была выиграна, на повестку дня встал вопрос об отделении философии от науки.
|
|
|
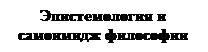 Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание? », и даже озадачили этим вопросом древних.
Постепенное отделение философии от науки стало возможным благодаря представлению, согласно которому «сердцем» философии служит «теория познания», теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Это представление восходит, по крайней мере, к декартовским Размышлениям и Трактату об усовершенствовании разума Спинозы, но достигает самоосознания только с Кантом. Это представление не отражалось на структуре академических институтов, на неизменном, нерефлективном самоописании профессоров философии, пока не наступил XIX век. Без такой идеи — «теории познания» — трудно представить себе, чем была бы «философия» в век современной науки. Метафизика — рассматриваемая в качестве описания того, как соединить в одно целое небеса и землю, — была заменена физикой. Секуляризация моральной мысли, которая доминировала в мыслях европейских интеллектуалов в XVII и XVIII веках, не рассматривалась в качестве поисков новых метафизических оснований, которые должны были занять место атеистической метафизики. Кант, однако, ухитрился трансформировать старое представление о философии — метафизики как «царицы наук» (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие наиболее базисной дисциплины — дисциплины оснований. Философия стала «первичной» уже не в смысле «наивысочайшей», а в смысле «лежащей в основе». Как только появился Кант, историки философии смогли заставить мыслителей XVII и XVIII веков пытаться отвечать на вопрос: «Как возможно наше познание? », и даже озадачили этим вопросом древних.
Эта кантианская картина философии, концентрирующаяся вокруг эпистемологии, получила полное признание только после того, как Гегель и спекулятивный идеализм перестали доминировать на интеллектуальной сцене Германии. Это случилось только после того, как люди, подобные Целлеру, начали говорить, что самое время кончать с системами и переходить к терпеливому труду сортировки, в ходе которой «данное» отделяется от «субъективных добавлений», имея в виду, что философия могла бы быть полностью профессионализирована. Движение «назад к Канту» в 60 годах прошлого века (XIX века – А. Ш. ) в Германии было также движением «давайте примемся за работу» — способом отделения автономной неэмпирической дисциплины философии, с одной стороны, от идеологии и, с другой стороны, — от возникающей науки экспериментальной психологии. Картина «эпистемологии-и-метафизики» как «центра философии» (и «метафизики» как нечто такого, что возникает из эпистемологии, а не наоборот), установленная неокантианцами, сегодня встроена в программу образования. Выражение теория познания стало общепринятым и приобрело респектабельность после того, как философия Гегеля утратила свежесть. Первое поколение почитателей Канта использовало термин Vеrnunftkritik как удобный ярлык для того, «что делал Кант», слова Еrkenntnislehre и Erkenntnistheorie были изобретены значительно позднee (в 1808 и 1832 годах соответственно). Но затем вмешались Гегель и идеалистические системосозидатели и весьма запутали вопрос об «отношении философии к другим дисциплинам». Гегельянство распространило взгляд на философию как на дисциплину, которая 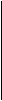 завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который < …> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthеorie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе».
завершает и одновременно и поглощает все остальные дисциплины, но не служит для них основанием. Оно также сделало философию слишком популярной, слишком интересной, слишком важной, чтобы та стала по-настоящему профессиональной; оно сподвигло профессоров философии на то, чтобы олицетворять Мировой Дух, вместо того чтобы просто заниматься своим Fach. Очерк Целлера, который < …> «первым поднял термин «Erkеnntnistheorie» до его нынешнего достойного положения», заканчивается словами, что те, кто верит, что мы можем вывести все научные дисциплины из нашего собственного духа, могут продолжать идти вслед за Гегелем, но более здравый человек должен осознавать, что собственная задача философии (раз отвергнуто понятие вещи-в-себе, а с ним и искус впадания в идеализм) состоит в том, чтобы установить объективность тех утверждений знания, которые делаются в различных эмпирических дисциплинах. Это будет сделано подходящим априорным вкладом, вносимым в восприятие. Erkenntnisthеorie, таким образом, появляется в 1862 году как способ избежать и «идеализм», и «спекуляцию». Пятнадцатью годами позже Целлер замечает, что нет необходимости больше говорить о специальной роли Erkenntnistheorie, поскольку она сейчас общепринята «особенно среди наших молодых коллег». Тридцатью годами позже Уильям Джеймс будет оплакивать мрачный темперамент наших лысых молодых докторов философии, вгоняющих друг друга в тоску и скуку, пишущих ужасные обзоры литературы в Philosophical Review и другие журналы, пресытившихся «справочной литературой, и никогда не путающих «Эстетику» с «Erkеnntnisthеoriе».
|
|
|
|
|
|
< …> я хочу проследить некоторые важнейшие стадии процесса перехода от кампании Декарта и Гоббса против «философии схоластов» к восстановлению в XIX веке философии как автономной, изолированной, «схоластической» дисциплины. Я буду поддерживать убеждение (которое разделяли и Дьюи, и Виттгенштейн), что взгляд на знание как на нечто такое, что представляет «проблему», и о чем мы должны иметь «теорию», является продуктом такой точки зрения относительно познания, согласно которой оно есть ансамбль репрезентаций, — точки зрения, как я уже говорил, принадлежащей XVII веку. Мораль такого подхода заключается в том, что если такой взгляд возможен относительно познания, то он возможен относительно эпистемологии, а также относительно философии, как она понимается с середины XIX века. История, которую я представляю здесь, о том, как философия-как-эпистемология достигла самоопределенности в современный период, звучит примерно так: Изобретение ума Декартом — сращение вер и ощущений с локковскими идеями — дало философии новые основания. Оно обеспечило поле исследования, которое выглядело «первичным» по отношению к предметам, над которыми размышляли античные философы. Далее, оно обеспечило поле исследования, в рамках которого стала возможной достоверность взглядов в противоположность мнениям. Локк сделал новоизобретенный «ум» Декарта предметом «науки о человеке» — моральной философии, противопоставленной естественной философии. Он сделал это, ошибочно полагая, что для «внутреннего пространства» аналогом ньютоновской механики частиц должно быть в каком-то смысле «[знакомство со своим собственным разумом]... (которое) весьма полезно, так как помогает направить наше мышление на исследование других вещей», и что это должно позволить нам каким-то образом «посмотреть, какими предметами наш разум способен заниматься, а какими нет».
|
|
|
Этот проект более тщательного изучения того, что мы можем знать и как мы можем знать путем изучения способа работы нашего ума, был окрещен «эпистемологией». Но до того, как проект мог достичь полного самоосознания, следовало найти способ сделать его неэмпирическим. Он должен был быть осуществлен чистым размышлением за столом, независимым от психологических открытий и способным к получению необходимых истин. Хотя Локк сохранил новое внутреннее пространство исследования — работая над изобретенным картезианским умом — он не смог удержаться в рамках картезианской достоверности. Локковский «сенсуализм» не был удачным кандидатом на вакантное место «царицы наук».
Кант направил философию по «безопасному пути науки», поместив внешнеепространство внутрь внутреннего пространства (пространства деятельности трансцендентального эго) и провозгласив затем картезианскую достоверность относительно внутреннего для законов того, что ранее мыслилось внешним. Он, таким образом, примирил картезианское утверждение, согласно которому мы можем иметь достоверность только в случае наших идей, с тем фактом, что мы уже имеем достоверность — априорное познание — о том, что не является идеями. Коперниканская революция была основана на представлении, что мы можем знать объекты априорно только в том случае, если мы «учреждаем» (constitute) их, и Кант никогда не был озабочен вопросом, как мы могли бы иметь аподиктическое знание этих «учреждающих занятий», поскольку предполагал, что картезианский привилегированный доступ позаботится об этом. Как только Кант заменил «физиологию человеческого рассудка прославленного мистера Локка» «мифическим предметом трансцендентальной психологии», (как сказал Стросон), «эпистемология» как дисциплина созрела окончательно.
Кроме того что «наука о человеке» была поднята с эмпирического до априорного уровня, Кант сделал три вещи, которые помогли философии-как-эпистемологии становлению самосознания и уверенности в себе. Во-первых, отождествив центральную проблему эпистемологии с отношением между двумя равно реальными, но не сводимыми друг к другу видами репрезентаций — «формальным» (концепции) и «материальным» (интуиции) — он сделал возможным рассмотрение новых эпистемологических проблем как продолжения проблем (проблем разума и универсалий), волновавших античных и средневековых философов. Тем самым он сделал возможным написание «истории философии» в современном стиле. Во-вторых, связав эпистемологию с моралью в проекте «разрушения разума для нахождения места для веры» (то есть разрушения ньютоновского детерминизма для того, чтобы дать место общему моральному сознанию), он возродил понятие «полной философской системы», в которой мораль «основывается» на чем-то менее противоречивом и более научном. В то время как каждая античная школа имела такой взгляд на человеческую добродетель, который был призван отвечать их представлению о мире, у Ньютона доминировали взгляды о мире. Кант позволил эпистемологии вступить в роль гаранта моральных предпосылок, которая раньше отводилась метафизике. В-третьих, учитывая все, что сказано о том, что «учреждено» нами, он сделал возможным рассмотрение эпистемологии как основополагающей дисциплины, умозрительной доктрины, способной к открытию «формальных» (или, в более поздней терминологии, «структурных», «феноменологических», «грамматических», «логических» или «концептуальных») характеристик любой области человеческой жизни. Таким образом, он позволил профессорам философии рассматривать себя в качестве председателей трибунала чистого разума, способных определять, остаются ли другие дисциплины в законных пределах, установленных «структурой» их предмета.
|
|
|
Рорти Р. Идея «теории познания». Эпистемология и самоимидж философии // Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – С. 97-102.
Вопросы для самоконтроля:
1. В какой исторический период встал вопрос об отделении философии от науки?
2. В чем видели предназначение своей философии ее новоевропейские родоначальники?
3. Как Гегель понимал место философии в познании? С чем связано такое истолкование?
4. Каким делом, с точки зрения автора, должна заниматься философия?
5. Покажите, как изменился предмет исследования в новоевропейской философии по сравнению с античной.
6. Покажите фундаментальную значимость шагов Канта по утверждению имиджа философии как эпистемологии.
7. Какие последствия для развития науки имели эти выводы основоположника немецкой классической философии?
С. Тулмин
 < …> В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих " критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? < …> Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение< …>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о " моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. < …> В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к " научной оценке". При этом мы исходим из того, что " экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.
< …> В каждой из этих сфер - моральной и интеллектуальной-мы можем поставить вопрос о стандартах или критериях, определяющих оценочные суждения, и о влиянии этих " критериев" на реальную силу и следствия оценок. Поэтому полезно спросить себя, а не могут ли этика и философия науки походить друг на друга еще больше, чем это имеет место сейчас? < …> Анализируя моральные суждения, мы вполне можем принять предположение< …>, что хорошая система моральных оценок как целое должна иметь два измерения - социологическое и историческое: философия морали не должна упускать из виду исторической практики моральных оценок, так как понятие о " моральном" суждении различно для Исландии VIII века эпохи саг, Афин времен Перикла и для современного Оксфорда. < …> В соответствии с этим основная цель данной статьи состоит в том, чтобы прояснить вопросы, встающие в связи с выработкой альтернативного логическому эмпиризму аналитического подхода к " научной оценке". При этом мы исходим из того, что " экологическая" точка зрения принята в философии морали. В статье я попытаюсь показать, что философию науки следует понимать не как расширение математической логики, а как развитие истории научных идей.
< …> Таким образом, значимость и приемлемость сравнительно узких понятий и концепций естествознания обусловлена значимостью и приемлемостью более широких понятий и концепций. В любой естественной науке наиболее общие предпосылки определяют базисные понятия и схемы рассуждений, используемые в каждой интерпретации данного частного аспекта природы, и, следовательно, они определяют фундаментальные вопросы, благодаря решению которых продвигаются вперед исследования в этой области. В качестве типичного примера структуры естественной науки можно привести классическую физику XIX века, в основе которой лежит целый ряд неявных предпосылок, например предположение о том, что локальное движение тел можно объяснять, абстрагируясь от их цвета и запаха, что " действия" и " силы" можно отождествлять с изменениями линейной скорости и т. п. Эти предположения являются фундаментальными и общими гипотезами или предпосылками, и от них зависит значение специальных понятий физики XIX столетия. Говоря как историк науки, я утверждаю, что такое понимание имеет глубокий смысл. Действительно, если устранить общие аксиомы ньютоновской динамики, то специальные утверждения о силах и их влиянии на движение не могут быть фальсифицированы: они просто отсутствуют в такой теории. Я думаю, Коллингвуд был прав, утверждая, что значимость и применимость, скажем, понятий физики XIX века зависят, как это можно показать, от определенных очень общих предположений, которые он назвал " абсолютными предпосылками". Частные динамические объяснения в классической физике предполагают ньютоновское понятие инерции: ньютоновское понятие инерции предполагает в свою очередь идею инерциального принципа некоторого рода: дальше этого мы едва ли можем пойти. Такая общая идея. как идея инерции, является для динамики " фундаментальной" в том смысле, что без некоторого идеала инерции динамика не смогла бы стронуться с места. Коллингвуд был, несомненно, прав также и в другом своем утверждении, а именно что решающие интеллектуальные переходы в науке связаны с изменением базисных предположений. При изучении этих переходов следует обращать внимание на их историческую основу, то есть на тот процесс, в котором идеалы объяснения, или абсолютные предпосылки, сменяют друг друга. < …> В сущности, подход Коллингвуда предполагает невозможность полной рациональности концептуальных изменений, и это следует из того, что он тяготел к причинному пониманию таких изменений. Однако в любом случае Коллингвуд заслуживает уважения за то, что он ясно сформулировал тот вопрос относительно концептуальной эволюции, который до сих пор не получил ответа, а именно: " Каким образом-при каких обстоятельствах и благодаря какому процессу-наши фундаментальные понятия сменяют друг друга? "
 < …> Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов " нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или " парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей " парадигмы", образуют некоторую " школу", очень похожую на художественные школы. Эти " нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их " научными революциями", -во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). < …> Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система " Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как " парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях. ) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его " Оптике" ) задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например " Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей. )
< …> Концепция Куна опирается на контраст между двумя типами научного изменения. В течение длительных периодов " нормальной науки", утверждает он, в научной области, скажем в физике, господствует авторитет главенствующей теории, или " парадигмы": для исследователей данной области она определяет, какие вопросы могут здесь возникать, какие интерпретации являются законными и т. п., и ученые, работающие в рамках соответствующей " парадигмы", образуют некоторую " школу", очень похожую на художественные школы. Эти " нормальные" фазы прерываются внезапными и радикальными трансформациями-Кун называет их " научными революциями", -во время которых одна главенствующая теория (например, механика Галилея и Ньютона) заменяется другой (например, механикой Эйнштейна и Гейзенберга). < …> Иногда он рассуждает так: интеллектуальная функция фундаментальной концептуальной схемы, такой, как динамическая система " Математических начал натуральной философии" Ньютона, состоит в том, чтобы детерминировать, какого типа теории допустимы, какие вопросы осмысленны и какие интерпретации приемлемы для физиков, работающих в ньютоновской традиции, и до тех пор, пока эта теория сохраняет свой интеллектуальный авторитет, физики могут рассматривать ее принципы как высшую теоретическую инстанцию, то есть как " парадигму". (С падением авторитета этой теории все здание физики должно быть перестроено на новых основаниях. ) В других местах Кун рассуждает следующим образом: создатели некоторой теоретической картины мира видят больше, чем их наследники и эпигоны. Последним свойственна определенная узость мышления, выражающаяся в том, что они считают осмысленными только те вопросы, законными-лишь те интерпретации и приемлемыми-только такие способы объяснения, которые санкционированы примерами создателей той школы, в русле которой они работают. При этом оказывается, что этот недостаток является очень полезным, ибо власть авторитета (например, Ньютона в его " Оптике" ) задает основные направления исследований, что очень удобно для ученых меньшего масштаба. (Заметим, что в приведенных рассуждениях изложены, во-первых, философская интерпретация, согласно которой сама теория представляет собой парадигму и обладает авторитетом, и, во-вторых, социологическая интерпретация, которая считает парадигмой сочинения, излагающие теорию, например " Оптику" Ньютона, и авторитет рассматривает как личное влияние определенного человека, а не влияние его идей. )
< …> В его книге различие между " нормальным" и " революционным" изменениями в науке было ясным, четким и хорошо определенным. " Научная революция", с точки зрения Куна, настолько глубоко и полно изменяет интеллектуальные средства, что ученые, работающие в рамках новой парадигмы, не будут иметь ни одного теоретического понятия, которое было бы общим для них и их коллег, все еще придерживающихся старой парадигмы; поэтому сторонники разных парадигм не смогут говорить друг с другом об их общей области исследования и будут " видеть" мир совершенно по-разному. Напротив, в период " нормальной" науки не существует такого взаимного непонимания или радикальной трансформации схем нашего опыта: нормальная наука существенно едина и ученые заняты работой в рамках общей для всех структуры фундаментальных понятий.
< …> Вместо прямого противопоставления " научной революции" " нормальному" научному развитию, что было центральным пунктом первоначальной куновской концепции, новые микрореволюции становятся теперь единицами изменения и в нормальной, и в революционной фазах развития науки. Однако, как только мы принимаем это, мы сразу же должны отказаться от истолкования научных революций как настолько глубоких и радикальных, что они не могут быть объяснены ни в старой, ни в новой системе мышления.
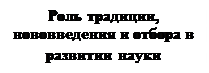 < …> Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. < …> нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать более глубоким, если ввести следующее различение. < …> моя первая гипотеза состоит в следующем: когда мы рассматриваем концептуальные изменения, происходящие в рамках какой-либо интеллектуальной традиции, мы должны проводить различие между: (1) единицами отклонения или концептуальными вариантами, циркулирующими в данной дисциплине в некоторый период времени, и (2) единицами эффективной модификации, то есть теми немногими вариантами, которые включаются в концептуальную традицию этой дисциплины. Для обсуждения развития научной традиции в указанных двух различных аспектах мы будем использовать специальные термины: (1) нововведения-возможные способы развития существующей традиции, предлагаемые ее сторонниками, и (2) отбор- решение ученых выбрать некоторые из предлагаемых нововведений и посредством избранных нововведений модифицировать традицию.
< …> Однако после работ Куна и Коллингвуда наша исходная проблема сохранилась: каково точное место рационального выбора в процессе фундаментального концептуального развития. < …> нужно сделать абсолютно ясным, в каком именно смысле микрореволюции должны рассматриваться как единицы изменения. В заключительной части статьи я постараюсь показать, что анализ концептуальных изменений можно сделать более глубоким, если ввести следующее различение. < …> моя первая гипотеза состоит в следующем: когда мы рассматриваем концептуальные изменения, происходящие в рамках какой-либо интеллектуальной традиции, мы должны проводить различие между: (1) единицами отклонения или концептуальными вариантами, циркулирующими в данной дисциплине в некоторый период времени, и (2) единицами эффективной модификации, то есть теми немногими вариантами, которые включаются в концептуальную традицию этой дисциплины. Для обсуждения развития научной традиции в указанных двух различных аспектах мы будем использовать специальные термины: (1) нововведения-возможные способы развития существующей традиции, предлагаемые ее сторонниками, и (2) отбор- решение ученых выбрать некоторые из предлагаемых нововведений и посредством избранных нововведений модифицировать традицию.
Сформулированное различение дает возможность выдвинуть мою вторую гипотезу: при изучении концептуального развития некоторой научной традиции мы сталкиваемся с процессом избирательного закрепления предпочитаемых научным сообществом интеллектуальных вариантов, то есть с процессом, имеющим определенное сходство с дарвиновским отбором. Поэтому мы должны быть готовы к поискам тех критериев, на основе которых профессиональные группы ученых осуществляют этот отбор в тот или иной период времени. < …> Если реальный процесс интеллектуального изменения описывается в категориях традиции, нововведения и отбора, тогда то, что я в начале статьи назвал " интеллектуальной оценкой", должно занять определенное место в этом процессе развития. Теперь я могу сформулировать свою третью гипотезу, рассматривая достоинства конкурирующих научных теорий-как и любых других творческих нововведений, - мы должны обращать внимание на критерии отбора, которые действительно руководят выбором между имеющимися концептуальными нововведениями в каждый отдельный момент времени Из этой гипотезы вытекает следующее следствие: критерии, используемые с полным правом в данной специфической научной ситуации, по-видимому, зависят от контекста-в той же степени, в какой моральные критерии зависят от действия.
< …> Подведем основные итоги нашего анализа. Если сформулированные выше гипотезы приемлемы (а это должно быть доказано), то концептуальное изменение нельзя рассматривать, как то, что " иногда случается", и, следовательно, его нельзя считать некоторым " социологическим феноменом". Оно представляет собой, скорее, результат выбора между альтернативными концептуальными вариантами; эти варианты, полученные учеными определенного поколения и определенной традиции, дают ту основу, опираясь на которую мы можем понять и проанализировать соответствующие критерии научной оценки. Таким образом, противопоставление моральных и интеллектуальных оценок, с рассмотрения которого мы начали нашу статью, неоправданно: в обеих сферах критерии оценки должны быть связаны с ситуацией, в которой они применяются " экологически", а не привносятся априори. < …> Отсюда вытекают два следствия. Во-первых, философы больше не могут диктовать принципы, с которыми ученые обязаны согласовывать свою теоретическую работу, и будут содействовать прогрессу науки только своим участием в дискуссиях на равных правах со всеми другими ее участниками. Во-вторых, приспособление к общепринятым взглядам дает гарантии научного прогресса. Выбор между концептуальными вариантами, существующими в определенное время, ориентирован на установленные критерии отбора и не обязательно в каждом случае приводит к модификации теории. Изучение отдельного концептуального выбора в науке на его историческом и общекультурном фоне не оправдывает автоматически ни самого этого выбора, ни критериев, которыми он детерминирован. Однако такой анализ дает нам возможность увидеть все богатство рассуждений, которые привели к соответствующему решению, и его следствия, как ожидаемые, так и неожиданные. Без этого нельзя оценить ни важности, ни плодотворности этих рассуждений. Таким образом, на своем самом глубоком уровне концептуальные точки зрения рассматривают вопрос о закономерностях отдельного случая, а не вопрос о кодексе законов, то есть занимаются прецедентами, а не принципами.
Тулмин С. Концептуальные революции в науке//Структура развития науки. Из Бостонских исследований по философии науки. М.: Прогресс, 1978. - С. 170-190.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что Тулмин понимает под исторической практикой моральных оценок?
2. В чем автор видит ограниченность логического эмпиризма в обосновании философии науки?
3. Используя какие примеры Ст. Тулмин демонстрирует зависимость утверждений классической физики XIX века от более общих представлений, свойственных культуре рассматриваемого исторического периода?
4. Какие неявные предпосылки лежат в основании здания классической физики?
5. Как Тулмин интерпретирует идею Коллингвуда относительно «абсолютных предпосылок» и влиянии последних на интеллектуальную эволюцию?
6. Анализируя теорию Куна, в чем Ст. Тулмин видит «интеллектуальные функции концептуальных схем» в науке?
7. Что Тулмин понимает под термином «власть авторитета» в развитии науки?
8. Почему сторонники различных исследовательских парадигм видят мир по-разному?
9. Какие новации при описании концептуальных изменений в науке вносит автор? Покажите это на примере категорий традиция, нововведение и отбор.
10. Как можно проинтерпретировать тезис Ст. Тулмина, что концептуальные изменения в науке являются «результатом выбора между альтернативными возможностями»?
11. Можно ли противопоставлять в научном исследовании моральные и интеллектуальные оценки?
12. Какие следствия для философии вытекают из изложенной Ст. Тулминым трактовки интеллектуального выбора в науке?
Ф. Франк

Когда мы обращаемся к наиболее творческим умам науки ХХ века, мы находим, что самые великие из них усиленно подчеркивали что тесная связь между наукой и философией неизбежна. Луи де Бройль, создавший волновую теорию материи (волны де Бройля), пишет: «В XIX веке произошло разобщение ученых и философов. Ученые смотрели с некоторой подозрительностью на философские спекуляции, которым, казалось, слишком часто не хватает точных формулировок и которые тщетно бьются над неразрешимыми проблемами. Философы в свою очередь больше не интересовались специальными науками, потому что их результаты казались им имеющими слишком ограниченный характер. Это разобщение, однако, принесло вред как философам, так и ученым».
Очень часто мы слышим от преподавателей той или иной науки, что студенты, посвятившие себя серьезному исследованию в области науки, не интересуются не относящимися к их занятиям философскими проблемами. Тем не менее один из самых творчески одаренных людей в физике XX века, Альберт Эйнштейн, пишет: «Я с уверенностью могу сказать, что самые способные студенты, которых я встречал как преподаватель, глубоко интересовались теорией познания. Под «самыми способными» я имею в виду тех, которые выделялись не только способностями, но и независимостью суждений. Они любили спорить об аксиомах и методах науки и своим упорством в защите своих мнений доказывали, что эти вопросы были важны для них».
Этот интерес к философскому аспекту науки, обнаруженный творческими и одаренными богатым воображением умами, понятен, если мы вспомним, что коренные изменения в науке всегда сопровождались более интенсивным углублением в ее философские основания. Изменения вроде перехода от системы Птолемея к системе Коперника, от Евклидовой к неевклидовой геометрии, от ньютоновской механики к механике теории относительности и к четырехмерному искривленному пространству привели к радикальному изменению в объяснении мира с точки зрения обыденного здравого смысла. На основании всех этих соображений следует, что всякий, кто хочет добиться удовлетворительного понимания науки XX века, должен хорошо освоиться с философской мыслью. Но он скоро убедится, что это относится и к всестороннему пониманию науки, существовавшей в любой период истории.
 Около столетия назад существующий в нашем современном мире разрыв между естественными и гуманитарными науками приписывался Ральфом Уольдо Эмерсоном недостатку привлекательности в занятиях наукой. Он писал: «Это равнодушие к человеку получает возмездие. Какого человека создает наука? Юношу она не привлекает. Он говорит: я не хочу быть человеком, подобным моему профессору». Едва ли можно думать, что преподаватели философии, истории или английского языка имеют на интеллектуальное и эмоциональное развитие среднего студента колледжа большее влияние, чем преподаватели математики или химии.
Около столетия назад существующий в нашем современном мире разрыв между естественными и гуманитарными науками приписывался Ральфом Уольдо Эмерсоном недостатку привлекательности в занятиях наукой. Он писал: «Это равнодушие к человеку получает возмездие. Какого человека создает наука? Юношу она не привлекает. Он говорит: я не хочу быть человеком, подобным моему профессору». Едва ли можно думать, что преподаватели философии, истории или английского языка имеют на интеллектуальное и эмоциональное развитие среднего студента колледжа большее влияние, чем преподаватели математики или химии.
Некоторые из наших авторов подчеркивали, что большая опасность для нашей западной культуры может проистекать из нашей системы образования, которая готовит очень узких специалистов, пользующихся в глазах общественного мнения особым уважением. Может быть, ни один автор не охарактеризовал это положение более удачно и ярко, чем испанский философ Ортега-и-Гассет. В своей книге «The Revolt of the masses» [«Восстание масс»] он пишет об ученом нашего века, что «сама наука — основа нашей цивилизации — автоматически превращает его в человека, не выделяющегося из общей массы людей, делает из него первобытного человека, современного дикаря». С другой стороны, ученый выступает самым настоящим представителем культуры XX века, он является «высшей точкой европейской человечности». Тем не менее, согласно Гассету, ученый, который получил обычное образование, оказывается сегодня «невежественным в отношении всего, что не входит в круг его специальности и его познаний. Мы должны сказать, что он является ученым невеждой, что представляет серьезную опасность, так как предполагается, что он является невеждой не в обычном понимании, а невеждой со всей амбицией образованного человека».
Отрывок, процитированный из труда Ортега-и-Гассета, конечно, не относится к характеристике методов научной работы таких люден, как Ньютон или Дарвин, или как Эйнштейн и Бор, но он очень хорошо характеризует то, как «научный метод» описывается в учебниках и освещается в школах, где делается попытка «очистить науку философии» и где установился определенный рутинный тип преподавания. В действительности же большие успехи в науках заключались в разрушении разделяющих философию и науку перегородок, а невнимание к значению и обоснованию наук преобладает только в периоды застоя.
Для того чтобы ученые, которые в нашем современном мире играют огромную общественную роль, не превращались в класс ученых невежд, их образование не должно строиться только на узкопрофессиональном подходе к явлениям, а должно уделять подобающее внимание философским вопросам и месту науки во всей области человеческой мысли.
 Таким образом, у изучающих науку произошло некое «раздвоение личности», некий род шизофрении, благодаря противоположности между их научной мыслью и философией детских лет. Вероятно, никто не сформулировал это так ясно, как Уайтхед, равно выдающийся как в науке, так и в философии. Он начинает с замечания, что в течение периода, когда наука подвергается небольшим изменениям, некоторые основные принципы не подвергаются сомнению в течение долгого периода времени и могут быть приняты без особой критики. Он пишет: «Допустимо (в качестве практического совета, которым следует руководствоваться в течение нашей непродолжительной жизни) воздерживаться от критики научных формулировок, пока в науке происходит изучение новых фактов. Но пренебрегать философией, когда происходит преобразование идей, значит признавать законность случайных философских предрассудков, усвоенных от нянюшки или школьного учителя или сложившихся под влиянием распространенных способов выражения».
Таким образом, у изучающих науку произошло некое «раздвоение личности», некий род шизофрении, благодаря противоположности между их научной мыслью и философией детских лет. Вероятно, никто не сформулировал это так ясно, как Уайтхед, равно выдающийся как в науке, так и в философии. Он начинает с замечания, что в течение периода, когда наука подвергается небольшим изменениям, некоторые основные принципы не подвергаются сомнению в течение долгого периода времени и могут быть приняты без особой критики. Он пишет: «Допустимо (в качестве практического совета, которым следует руководствоваться в течение нашей непродолжительной жизни) воздерживаться от критики научных формулировок, пока в науке происходит изучение новых фактов. Но пренебрегать философией, когда происходит преобразование идей, значит признавать законность случайных философских предрассудков, усвоенных от нянюшки или школьного учителя или сложившихся под влиянием распространенных способов выражения».
Уайтхед говорит о «случайной философии», потому что от случайности нашего рождения зависит, какую философию мы усваиваем во время нашего детства. Он точно указывает те факторы, которые определяют эту «философию»: наше дошкольное образование, школа, включая воскресную школу, и даже словарный запас и синтаксис того языка, на котором мы получаем образование. Поведение ученых, которые, не сомневаясь, придерживаются случайной философии, усвоенной в детстве, имеет, согласно Уайтхеду, аналогию в области религии: оно подобно поведению тех, «которые благодарят провидение за то, что они избавлены от тяжелых религиозных сомнений благодаря тому счастливому обстоятельству, что они родились в истинной вере».
Такая философия часто сохраняется у ученых со времени их детства вопреки изменениям в научном мышлении, и нередко случается, что написанные ими научные труды содержат в себе остатки устаревших философских учений. Это положение с большой силой было подчеркнуто Эрнстом Махом, который, как и Уайтхед, был одинаково проницательным как в науке, так и в философии, хотя и защищал совершенно другие взгляды. Оба, однако, утверждали, что без критической философии сама наука превратится в орудие устаревших философских учений. Мах писал: «Область трансцендентного мне недоступна... я к тому же откровенно сознаюсь, что ее обитатели ни малейшим образом не возбуждают моей любознательности... Я вовсе не философ, а только естествоиспытатель... Но я не желаю также, разумеется, быть таким естествоиспытателем, который слепо доверяется руководительству одного какого-нибудь философа, как это требовал, например, от своего пациента врач в комедии Мольера... Я поставил себе целью не ввести новую философию в естествознание, а удалить из него старую, отслужившую службу... Среди многих философских систем... можно насчитать немало таких, которые самими философами признаны ложными. В естествознании, где они встречали менее внимательную критику, эти философские системы дольше сохранили свою живучесть: так, какая-нибудь разновидность животных, неспособная защищаться от своих врагов, может сохраниться на каком-нибудь заброшенн
|
|
|


