 |
Текст из: Камю А. «Миф о Сизифе»
|
|
|
|
АЛЬБЕР КАМЮ
Камю Альбер (1913-1960) — французский философ, публицист, писатель, драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1957). Основные философские и литературно-философские работы: «Миф о Сизифе» (1941), повесть «Посторонний» (1942), «Письма к немецкому другу» (1943-1944), эссе «Бунтующий человек» (1951), роман «Чума» (1947), повесть «Падение» (1956), «Шведские речи» (1958) и др. Философ экзистенциальной ориентации. Особенности онтологии, гносеологии, философии истории, философии искусства определены постановкой и решением центральной для Камю проблемы: философского оправдания стоического, бунтарского сознания, противопоставленного «безрассудному молчанию мира». Творчество Камю — это безостановочный философский поиск, который целенаправляется страстным переживанием за Человека, оказавшегося жертвой, свидетелем и соучастником трагического надлома времени и истории в XX в. Камю показьшает, что жизнь в обезбоженном мире с необходимостью ведет к обожению человека, истории и нигилизму ницшеанского толка. Камю в «Мифе о Сизифе» стремится ответить на вопрос: как, в чем найти надежду на позитивное бытие в мире, в котором религиозная надежда умерла?
 Постулируя изначальное мироощущение человека как абсурд, Камю исследует его как характеристику человеческого «бытия-в-мире», отчужденном и неразумном. Одновременно он характеризует абсурд как границу осознанности и ясности понимания бытия. Совмещение онтологического и гносеологического смыслов осуществляется в переживании мира человеком, вьшавшем из обыденного течения жизни или истории. Осуществившееся видение абсурдности бытия означает видение им своего человеческого удела. Мужественная честность перед собой, героическая готовность к борьбе, трезвость оценки непосредственного опыта Камю противопоставляет самоубийству и «философскому самоубийству» (религии, мифосознанию, утопиям и т.п.) как вариантам ухода жизни и мысли от устрашающе-трезвого видения абсурдности существования. Мысль Камю эволюционирует от провозглашения тотального бунта против всех богов, который выбирает абсурдный человек («Миф о Сизифе») к представлению о том, что сохранить духовный мир человека и человечества с помощью нигилистической морали и философии невозможно. От состояния «все дозволено», ограниченного субъективным требованием полноты самоутверждения, — к пониманию угрозы самой культуре и цивилизации со стороны человека, утратившего шкалу ценностей.
Постулируя изначальное мироощущение человека как абсурд, Камю исследует его как характеристику человеческого «бытия-в-мире», отчужденном и неразумном. Одновременно он характеризует абсурд как границу осознанности и ясности понимания бытия. Совмещение онтологического и гносеологического смыслов осуществляется в переживании мира человеком, вьшавшем из обыденного течения жизни или истории. Осуществившееся видение абсурдности бытия означает видение им своего человеческого удела. Мужественная честность перед собой, героическая готовность к борьбе, трезвость оценки непосредственного опыта Камю противопоставляет самоубийству и «философскому самоубийству» (религии, мифосознанию, утопиям и т.п.) как вариантам ухода жизни и мысли от устрашающе-трезвого видения абсурдности существования. Мысль Камю эволюционирует от провозглашения тотального бунта против всех богов, который выбирает абсурдный человек («Миф о Сизифе») к представлению о том, что сохранить духовный мир человека и человечества с помощью нигилистической морали и философии невозможно. От состояния «все дозволено», ограниченного субъективным требованием полноты самоутверждения, — к пониманию угрозы самой культуре и цивилизации со стороны человека, утратившего шкалу ценностей.
|
|
|
Камю показывает, что абсурдный, бессмысленный мир без Бога порождает героев (совесть, дух, мужество) и тиранов (ложь, насилие, цинизм), с необходимостью требуя оценки бунта как состояния морального сознания, с одной стороны, и переосмысления «мира» как культурно-исторического процесса — с другой. Недостаточность нравственной, социальной, исторической оправданности «бунта против всех» преодолеваются Камю в процессе переосмысления его конструктивно-деструктивных возможностей, в поиске критериев направленности бунтарского сознания человека в определении меры абсурдности мира. Мир обретает
смысл, который открывается только через осмысленный, направленный на изживание абсурдности мира, бунт.
Камю обнажает условия перехода бунта как отказа от бессмысленности и жестокости в тиранию как примирение с жестокостью. Именно слияние философского (метафизического) и политического бунтов ведет от человеческой солидарности, поиска общих смысложизненных ориентиров к абсолютизму, всезнанию, провиденциализму, террору. В России такая трансформация была предподготовлена, согласно Камю, так называемой «немецкой идеологией», «злыми гениями Европы» Гегелем, Марксом и Ницше, создателями современной 20 веку формы государственного нигилизма. Государственная идеология, опирающаяся на государственный террор, ликвидирующая свободу и миллионы жизней, исходит из релятивистского отношения к трансцендентным ценностям и абсолютизации прогрессистского доверия к истории.
|
|
|
Камю предостерегал как мыслителей от пророческой позиции в мире, где идея способна трансформировать ткань истории, так и народы, которые делают эти пророчества идеологией своего бунта. Мыслитель находит ограничения бунта в самом человеке, вышедшем из страданий и вынесшем из них бунт и солидарность. Такой человек знает о своих правах, выражает в бунте свое человеческое измерение и сознание неустранимости трагизма человеческого существования. Протест против человеческого удела всегда обречен на частичное поражение, но он так же необходим человеку, как собственный труд — Сизифу.
Текст из: Камю А. «Миф о Сизифе»
На нижеследующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсюду, — о чувстве, а не о философии абсурда, собственно говоря, нашему времени неизвестной. Элементарная честность требует с самого начала признать, чем эти страницы обязаны некоторым со-
 временным мыслителям. Нет смысла скрывать, что я буду их цитировать и обсуждать на протяжении всей этой работы.
временным мыслителям. Нет смысла скрывать, что я буду их цитировать и обсуждать на протяжении всей этой работы.
Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои размышления предварительны: нельзя сказать, к какой позиции они приведут. Здесь вы найдете только чистое описание болезни духа, к которому пока не примешаны ни метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова ее единственная предвзятость.
Абсурд и самоубийство
Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа — за ним последуют определенные действия. Эту очевидность чует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума.
|
|
|
Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить должно по действиям, которые следуют за решением. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли вокруг Земли — не все ли равно? Словом, вопрос это пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основанием их жизни (то,
что называется причиной жизни, оказывается одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов...
Самоубийство всегда рассматривалось исключительно в качестве социального феномена. Мы же, напротив, с самого начала ставим вопрос о связи самоубийства с мышлением индивида. Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца, подобно Великому Деянию алхимиков. Сам человек ничего о нем не знает, но в один прекрасный день стреляется или топится. Об одном самоубийце-домоправителе мне говорили, что он сильно изменился, потеряв пять лет назад дочь, что эта история его «подточила». Трудно найти более точное слово. Стоит мышлению начаться, и оно уже подтачивает. Поначалу роль общества здесь не велика. Червь сидит в сердце человека, там его и нужно искать. Необходимо понять ту смертельную игру, которая ведет от ясности в отношении собственного существования к бегству с этого света.
|
|
|
Причин для самоубийства много, и самые очевидные из них, как правило, не самые действенные. Самоубийство редко бывает результатом рефлексии (такая гипотеза, впрочем, не исключается). Развязка наступает почти всегда безотчетно. Газеты сообщают об «интимных горестях» или о «неизлечимой болезни». Такие объяснения вполне приемлемы. Но стоило бы выяснить, не был ли в тот день равнодушен друг отчаявшегося — тогда виновен именно он. Ибо' и этой малости могло быть достаточно, чтобы горечь и скука, скопившиеся в сердце самоубийцы, вырвались наружу.
Воспользуемся случаем, чтобы отметить относительность рассуждений, проводимых и в этом эссе: самоубийство может быть связано с куда более уважительными причинами. Примером могут служить политические самоубийства, которые совершались «из протеста» во время китайской революции.
Но если трудно с точностью зафиксировать мгновение, неуловимое движение, при котором избирается смерт-

 ный жребий, то намного легче сделать выводы из самого деяния, В известном смысле, совсем как в мелодраме, самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далеких аналогии, вернемся к обыденному языку. Признается попросту, что «жить не стоит». Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия но самым разным причинам, прежде всего и силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания.
ный жребий, то намного легче сделать выводы из самого деяния, В известном смысле, совсем как в мелодраме, самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далеких аналогии, вернемся к обыденному языку. Признается попросту, что «жить не стоит». Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия но самым разным причинам, прежде всего и силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания.
Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для жизни грез? Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, — этот мир нам знаком. Но, если вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помьшшявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию.
Предметом моего эссе является как раз эта связь между абсурдом и самоубийством, выяснение того, в какой мере самоубийство есть исход абсурда. В принципе для человека, который не жульничает с самим собой, действия регулируются тем, что он считает истинным. В таком случае вера в абсурдность существования должна быть руководством к действию. Правомерен вопрос, поставленный ясно и без ложного пафоса: не следует ли за подобным заключением быстрейший выход из этого смутного состояния? Разумеется, речь идет о людях, способных жить в согласии с собой.
|
|
|
 В такой ясной постановке проблема кажется простой и вместе с тем неразрешимой. Ошибочно было бы полагать, будто простые вопросы вызывают столь же простые ответы, а одна очевидность с легкостью влечет за собой другую. Если подойти к проблеме с другой стороны, независимо от того, совершают люди самоубийство или нет, кажется априорно ясным, что может быть всего лишь два философских решения: «да» и «нет». Но это слишком уж просто. Есть еще и те, кто непрестанно вопрошает, не приходя к однозначному решению. Я далек от иронии: речь идет о большинстве. Понятно также, что многие, отвечающие «нет», действуют так, словно сказали «да». Если принять ницшеанский критерий, они так или иначе говорят «да». И наоборот, самоубийцы часто уверены в том, что жизнь имеет смысл. Мы постоянно сталкиваемся с подобными противоречиями. Можно даже сказать, что противоречия особенно остры как раз в тот момент, когда столь желанна логика...
В такой ясной постановке проблема кажется простой и вместе с тем неразрешимой. Ошибочно было бы полагать, будто простые вопросы вызывают столь же простые ответы, а одна очевидность с легкостью влечет за собой другую. Если подойти к проблеме с другой стороны, независимо от того, совершают люди самоубийство или нет, кажется априорно ясным, что может быть всего лишь два философских решения: «да» и «нет». Но это слишком уж просто. Есть еще и те, кто непрестанно вопрошает, не приходя к однозначному решению. Я далек от иронии: речь идет о большинстве. Понятно также, что многие, отвечающие «нет», действуют так, словно сказали «да». Если принять ницшеанский критерий, они так или иначе говорят «да». И наоборот, самоубийцы часто уверены в том, что жизнь имеет смысл. Мы постоянно сталкиваемся с подобными противоречиями. Можно даже сказать, что противоречия особенно остры как раз в тот момент, когда столь желанна логика...
Итак, стоит ли полагать, столкнувшись с этими противоречиями и этой темнотой, будто нет никакой связи между возможным мнением о жизни и деянием, совершаемым, чтобы ее покинуть? Не будем преувеличивать. В привязанности человека к миру есть нечто более сильное, чем все беды мира. Тело принимает участие в решении ничуть не меньше ума, и оно отступает перед небытием. Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем мыслить. Тело сохраняет это опережение в беге дней, понемногу приближающем наш смертный час...
Абсурдные стены
Подобно великим произведениям искусства, глубокие чувства значат всегда больше того, что вкладывает и них сознание. В привычных действиях и мыслях обнаруживаются неизменные симпатии или антипатии души, они прослеживаются в выводах, о которых сама душа ничего не знает. Большие чувства таят в себе целую вселенную, которая может быть величественной или жалкой; они высвечивают не-
 кий мир, наделенный своей собственной аффективной атмосферой. Есть целые вселенные ревности, честолюбия, эгоизма или щедрости. Вселенная предполагает наличие метафизической системы или установки сознания. То, что верно в отношении отдельных чувств, тем более верно для лежащих в их основании эмоций. Они неопределенны и смутны, но в то же время «достоверны»; столь же отдаленны, сколь и «наличии» — подобно эмоциям, дающим нам переживание прекрасного или пробуждающим чувство абсурда
кий мир, наделенный своей собственной аффективной атмосферой. Есть целые вселенные ревности, честолюбия, эгоизма или щедрости. Вселенная предполагает наличие метафизической системы или установки сознания. То, что верно в отношении отдельных чувств, тем более верно для лежащих в их основании эмоций. Они неопределенны и смутны, но в то же время «достоверны»; столь же отдаленны, сколь и «наличии» — подобно эмоциям, дающим нам переживание прекрасного или пробуждающим чувство абсурда
Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает внимания сама эта неуловимость. Судя по всему, другой человек всегда остается для пас непознанным, в нем всегда есть нечто не сводимое к нашему познанию, ускользающее от него...
Быть может, нам удастся раскрыть неуловимое чувство абсурдности в различных, но все же родственных мирах умопостижения, искусства жизни и искусства как такового. Мы начинаем с атмосферы абсурда. Конечной же целью является постижение вселенной абсурда и той установки сознания, которая высвечивает в мире этот неумолимый лик.
Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Так и с абсурдом. Родословная абсурдного мира восходит к нищенскому рождению. Ответ «ни о чем» на вопрос, о чем мы думаем, в некоторых ситуациях есть притворство. Это хорошо знакомо влюбленным. Но если ответ искренен, если он передает, то состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено, то здесь как будто проступает первый знак абсурдности.
Изо дня в день нас несет время безотрадной жизни, но наступает момент, когда приходится взваливать ее груз на собственные плечи. Мы живем будущим: «завтра», «позже», «когда у тебя будет положение», «с возрастом ты поймешь».
Восхитительна эта непоследовательность — ведь, в конце концов, наступает смерть. Приходит день, и человек замечает, что ему тридцать лет. Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит себя со временем, занимает в нем место, признает, что находится в определенной точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознает, что время — его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд.
Стоит спуститься на одну ступень ниже — и мы попадаем в чуждый нам мир. Мы замечаем его «плотность», видим, насколько чуждым в своей независимости от нас является камень, с какой интенсивностью нас отрицает природа, самый обыкновенный пейзаж. Основанием любой красоты является нечто нечеловеческое. Стоит понять это, и окрестные холмы, мирное небо, кроны деревьев тут же теряют иллюзорный смысл, который мы им придавали. Отныне они будут удаляться, превращаясь в некое подобие потерянного рая. Сквозь тысячелетия восходит к нам первобытная враждебность мира. Он становится непостижимым, поскольку на протяжении веков мы понимали в нем лишь те фигуры и образы, которые сами же в него и вкладывали, а теперь у нас больше нет сил на эти ухищрения. Становясь самим собой, мир ускользает от нас. Расцвеченные привычкой, декорации становятся тем, чем они были всегда. Они удаляются от нас. Подобно тому, как за обычным женским лицом мы неожиданно открываем незнакомку, которую любили месяцы и годы, возможно, настанет пора, когда мы станем стремиться к тому, что неожиданно делает нас столь одинокими. Но время еще не пришло, и пока что у нас есть только эта плотность и эта чуждость мира. — этот абсурд.
Люди также являются источником нечеловеческого. В немногие часы ясности ума механические действия людей, их лишенная смысла пантомима явственны во всей своей тупости. Человек говорит но телефону за стеклянной перего-


 родкой; его не слышно, но видна бессмысленная мимика. Возникает вопрос: зачем же он живет? Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, эта «тошнота», как говорит один современный автор, — это тоже абсурд. Точно так же нас тревожит знакомый незнакомец, отразившийся на мгновение в зеркале или обнаруженный на нашей собственной фотографии,- это тоже абсурд...
родкой; его не слышно, но видна бессмысленная мимика. Возникает вопрос: зачем же он живет? Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, эта «тошнота», как говорит один современный автор, — это тоже абсурд. Точно так же нас тревожит знакомый незнакомец, отразившийся на мгновение в зеркале или обнаруженный на нашей собственной фотографии,- это тоже абсурд...
Наконец, я подхожу к смерти и тем чувствам, которые возникают у нас по ее поводу. О смерти все уже сказано, и приличия требуют сохранять здесь патетический тон. Но что удивительно: все живут так, словно «ничего не знают». Дело в том, что у нас нет опыта смерти. Испытанным, в полном смысле слова, является лишь то, что пережито, осознано. У нас есть опыт смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком нас убеждает. Меланхолические условности неубедительны. Ужасает математика происходящего. Время страшит нас своей доказательностью, неумолимостью своих расчетов. На все прекрасные рассуждения о душе мы получали от него убедительные доказательства противоположного. В неподвижном теле, которое не отзывается даже на пощечину, души нет. Элементарность и определенность происходящего составляют содержание абсурдного чувства. В мертвенном свете рока становится очевидной бесполезность любых усилий. Перед лицом кровавой математики, задающей условия нашего существования, никакая мораль, никакие старания не оправданы a priori.
Обо всем этом уже не раз говорилось. Я ограничусь самой простой классификацией и укажу лишь на темы, которые само собой разумеются. Они проходят сквозь всю литературу и философию, наполняют повседневные разговоры. Нет нужды изобретать что-либо заново. Но необходимо удостовериться в их очевидности, чтобы суметь поставить основополагающий вопрос. Повторю еще раз, меня интересуют не столько проявления абсурда, сколько следствия. Если мы
удостоверились в фактах, то какими должны быть следствия, куда нам идти? Добровольно умереть или же, несмотря ни на что, надеяться? Но прежде всего необходимо хотя бы вкратце рассмотреть, как осмыслялась эта ситуация в прошлом...
По-своему интеллект также говорит мне об абсурдности мира. Его оппонент, каковым является слепой разум, может сколько угодно претендовать на полную ясность — я жду доказательств и был бы рад получить их. Но, несмотря на вековечные пр«;тензии, несмотря на такое множество людей, красноречивых и готовых убедить меня в чем угодно, я знаю, что все доказательства ложны. Для меня нет счастья, если я о нем не знаю. Этот универсальный разум, практический или моральный, этот детерминизм, эти всеобъясняющие категории — тут есть над чем посмеяться честному человеку. Все это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть, состоящую в том, что он порабощен миром. Судьба человека отныне обретает смысл в этой непостижимой и ограниченной вселенной. Над ним возвышается, его окружает иррациональное — и так до конца его дней. Но когда к нему возвращается ясность видения, чувство абсурда высвечивается и уточняется.
Я говорил, что мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира. Пока он — единственная связь между ними. Абсурд скрепляет их так прочно, как умеет приковывать одно живое существо к другому только ненависть. Это все, что я могу различить в той безмерной вселенной, где мне выпал жребий жить. Остановимся на этом подробнее. Если верно, что мои отношения с жизнью регулируются абсурдом, если я проникаюсь этим чувством, когда взираю на мировой спектакль, если я утверждаюсь в мысли, возлагающей на меня обязавиость искать

 знание, то я должен пожертвовать всем, кроме достоверности. И чтобы удержать ее, я должен все время иметь ее перед глазами. Прежде всего я должен подчинить достоверности свое поведение и следовать ей во всем. Я говорю здесь о честности. Но прежде я хотел бы знать: может ли мысль жить в этой пустыне?
знание, то я должен пожертвовать всем, кроме достоверности. И чтобы удержать ее, я должен все время иметь ее перед глазами. Прежде всего я должен подчинить достоверности свое поведение и следовать ей во всем. Я говорю здесь о честности. Но прежде я хотел бы знать: может ли мысль жить в этой пустыне?
Мне уже известно, что мысль иногда навещала эту пустыню. Там она нашла хлеб свой, признав, что ранее питалась призраками. Так возник повод для нескольких насущных тем человеческой рефлексии.
Абсурдность становится болезненной страстью с того момента, как осознается. Но можно ли жить такими страстями, можно ли принять основополагающий закон, гласящий, что сердце сгорает в тот самый миг, как эти страсти пробуждаются в нем? Мы не ставим пока этого вопроса, хотя он занимает в нашем эссе центральное место. Мы еще вернемся к нему.
Философское самоубийство
Чувство абсурда не равнозначно понятию абсурда. Чувство лежит в основании, это точка опоры. Оно не сводится к понятию, исключая то краткое мгновение, когда чувство выносит приговор вселенной. Затем чувство либо умирает, либо сохраняется... Необходимо знать, как уходят и почему остаются. Так определяется мною проблема самоубийства, и с этим связан мой интерес к выводам экзистенциальной философии.
Но я хотел бы ненадолго свернуть с прямого пути. До сих пор абсурд описывался нами извне. Однако мы можем задать вопрос о том, насколько ясно это понятие, провести анализ его значения, с одной стороны, и его следствий — с другой...
Доказательство от абсурда также осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с логической реальностью, которую стремятся установить. Во всех случаях, от самых простых до самых сложных, абсурдность тем
больше, чем сильнее разрыв между терминами сравнения. Есть абсурдные браки, вызовы судьбе, злопамятства, молчания, абсурдные войны и абсурдные перемирия. В каждом случае абсурдность порождается сравнением. Поэтому у меня есть все основания сказать, что чувство абсурдности рождается не из простого исследования факта или впечатления, но врывается вместе со сравнением фактического положения дел с какой-то реальностью, сравнением действия с лежащим за пределами этого действия миром. По существу, абсурд есть раскол. Его нет ни в одном из сравниваемых элементов. Он рождается в их столкновении.
Следовательно, с точки зрения интеллекта я могу сказать, что абсурд не в человеке (если подобная метафора вообще имеет смысл) и не в мире, но в их совместном присутствии. Пока это единственная связь между ними. Если держаться очевидного, то я знаю, чего хочет человек, знаю, что ему предлагает мир, а теперь еще могу сказать, что их объединяет. Нет нужды вести дальнейшие раскопки. Тому, кто ищет, достаточно одной-единственной достоверности. Дело за тем, чтобы вывести из нее все следствия.
Непосредственное следствие есть одновременно и правило метода. Появление этой своеобразной триады не представляет собой неожиданного открытия;\мерики. Но у нее то общее с данными опыта, что она одновременно бесконечно проста и бесконечно сложна. Первой в этом отношении характеристикой является неделимость: уничтожить один из терминов триады — значит уничтожить всю ее целиком. Помимо человеческого ума нет абсурда. Следовательно, вместе со смертью исчезает и абсурд, как и все остальное. Но абсурда нет и вне мира. На основании данного элементарного критерия я могу считать понятие абсурда существенно важным и полагать его в качестве первой истины. Так возникает первое правило вышеупомянутого метода: если я считаю нечто истинным, я должен его сохранить. Если я намерен репшть какую-то проблему, то мое решение не должно




 уничтожать одну из ее сторон. Абсурд для меня единственна» данность. Проблема в том, как выйти из него, а также в том, выводится ли с необходимостью из абсурда самоубийство. Первым я, по сути дела, единственным условием моего исследования является сохранение того, что меня уничтожает, последовательное соблюдение всего того, что я считаю сущностью абсурда. Я определил бы ее как противостояние и непрерывную борьбу.
уничтожать одну из ее сторон. Абсурд для меня единственна» данность. Проблема в том, как выйти из него, а также в том, выводится ли с необходимостью из абсурда самоубийство. Первым я, по сути дела, единственным условием моего исследования является сохранение того, что меня уничтожает, последовательное соблюдение всего того, что я считаю сущностью абсурда. Я определил бы ее как противостояние и непрерывную борьбу.
Провода до конца абсурдную логику, я должен признать, что эта борьба предполагает полное отсутствие надежды (что не имеет ничего общего с отчаянием), неизменный отказ (его не нужно путать с отречением) и осознанную неудовлетворенность (которую не стоит уподоблять юношескому беспокойству). Все, что уничтожает, скрывает эти требования или идет вразрез с ними (прежде всего это уничтожающее раскол согласие), разрушает абсурд и обесценивает предлагаемую установку сознания. Абсурд имеет смысл, когда с ним не соглашаются.
Очевидным фактом морального порядка является то, что человек — извечная жертва своих же истин. Раз признав их, он уже не в состоянии от них отделаться. За все нужно как-то платить. Осознавший абсурд человек отныне привязан к нему навсегда. Человек без надежды, осознав себя таковым, более не принадлежит будущему. Это в порядке вещей. Но в равной мере ему принадлежат и попытки вырваться из той вселенной, творцом которой он является. Все предшествующее обретает смысл только в свете данного парадокса. Поучительно посмотреть и на тот способ выведения следствий, к котором]/, исходя из критики рационализма, прибегали мыслители, признавшие атмосферу абсурда.
Если взять философов-экзистенциалистов, то я вижу, что все они предлагают бегство. Их аргументы довольно своеобразны; обнаружив абсурд среди руин разума, находясь в замкнутой, ограниченной вселенной человека, они обожествляют то, что их сокрушает, находя основание для надежд
в том, что лишает всякой надежды. Эта принудительная надежда имеет для них религиозный смысл. На этом необходимо остановиться...
Я решусь назвать экзистенциальный подход философским самоубийством. Это не окончательный приговор, а просто удобный способ для обозначения того движения мысли, которым она отрицает самое себя и стремится преодолеть себя с помощью того, что ее отрицает. Отрицание и есть Бог экзистенциалиста. Точнее, единственной опорой этого Бога является отрицание человеческого разума. Но, как и виды самоубийства, боги меняются вместе с людьми. Имеется немало разновидностей скачка — главное, что он совершается. Искупительные отрицания, финальные противот речия, снимающие все препятствия (хотя они еще не преодолены), — все это может быть результатом как религиозного вдохновения, так и — как ни парадоксально — рациональности. Все дело в притязаниях на вечность, отсюда и скачок.
Еще раз заметим, что предпринятое в данном эссе рассуждение совершенно чуждо наиболее распространенной в наш просвещенный век установке духа: той, что опирается на принцип всеобщей разумности и нацелена на объяснение мира. Нетрудно объяснять мир, если заранее известно, что он объясним. Эта установка сама по себе законна, но не представляет интереса для нашего рассуждения. Мы рассматриваем логику сознания, исходящего из философии, полагающей мир бессмысленным, но, в конце концов, обнаруживающего в мире и смысл, и основание. Пафоса больше в том случае, когда мы имеем дело с религиозным подходом: это видно хотя бы по значимости для последнего темы иррационального. Но самым парадоксальным и знаменательным является подход, который придает разумные основания миру, вначале считавшемуся лишенным руководящего принципа. Прежде чем обратиться к интересующим нас следствиям, нельзя не упомянуть об этом новейшем приобретении духа ностальгии.
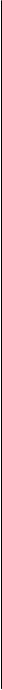
 Абсурдная свобода
Абсурдная свобода
Теперь снова пришла пора обратиться к понятию самоубийства, рассматривая его с другой стороны. Ранее речь шла о знании; должна ли жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило прожить. Сейчас же, напротив, кажется, что, чем меньше в ней смысла, тем больше оснований, чтобы ее прожить. Пережить испытание судьбой значит полностью принять жизнь. Следовательно, зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только в том случае, если абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания. Отвергнуть один из терминов противоречия, которым живет абсурд, значит избавиться от него. Упразднить сознательный бунт, значит обойти проблему. Тема перманентной революции переносится, таким образом, в индивидуальный опыт. Жить — значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни — значит не отрывать от него взора. В отличие от Эвридики, абсурд умирает, когда от него отворачиваются. Одной из немногих последовательных философских позиций является бунт, непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем мраком. Бунт есть требование прозрачности, в одно мгновение он ставит весь мир под вопрос. Подобно тому, как опасность дает человеку незаменимый случай постичь самого себя, метафизический бут предоставляет сознанию все поле опыта. Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения, обычно ее сопровождающего.
Мы видим теперь, насколько опыт абсурда далек от самоубийства. Ошибочно мнение, будто самоубийство следует за бунтом, является его логическим завершением. Самоубийство есть полная противоположность бунта, так как предполагает согласие. Подобно скачку, самоубийство — это согласие с собственными пределами. Все закончено, человек отдается предписанной ему истории; видя впереди ужасное будущее, он низвергается в него. На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда, оно делает абсурдной даже саму
смерть. Но я знаю, что условием существования абсурда является его неразрешимость. Будучи одновременно сознанием смерти и отказом от нее, абсурд ускользает от самоубийства. Абсурдна та веревка, которую воспринимает приговоренный к смерти перед своим головокружительным падением. Несмотря ни на что, она здесь, в двух шагах от него. Приговоренный к смертной казни — прямая противоположность самоубийцы.
Этот бунт придает жизни цену. Становясь равным по длительности всему существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его реальностью. Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни, тут ничего не могут поделаль все самоуничижения. Есть нечто неповторимо могущественное в дисциплине, которую продиктовал себе ум, в крепко выкованной воле, в этом противостоянии. Обеднить реальность, которая своей бесчеловечностью подчеркивает величие человека, — значит обеднить самого человека. Понятно, почему всеобъясняющие доктрины ослабляют меня. Они снимают с меня груз моей собственной жизни; но я должен нести его в полном одиночестве. И я уже не могу представить, как может скептическая метафизика вступить в союз с моралью отречения.
Сознание и бунт — обе эти формы отказа — противоположны отречению. Напротив, их переполняют все страсти человеческого сердца. Речь идет о смерти без отречения, а не о добровольном уходе из жизни. Самоубийство — ошибка. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам; абсурд есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве. Абсурдный человек знает, что сознание и каждодневный бунт — свидетельства той единственной истины, которой является брошенный им вызов. Таково первое следствие.
Придерживаясь занятой ранее позиции, а именно выводить все следствия (и ничего, кроме них) из установленно-



 го понятия, я сталкиваюсь со вторым парадоксом. Чтобы хранить верность методу, мне нет нужды обращаться к метафизической проблеме свободы. Меня не интересует, свободен ли человек вообще, я могу ощутить липа свою собственную свободу. У меня нет общих представлений о свободе, но есть лишь несколько отчетливых идей. Проблема «свободы вообще» не имеет смысла, ибо так или иначе связана с проблемой бога. Чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин. Эту проблему делает особенно абсурдной то, что одно и то же понятие и ставит проблему свободы, и одновременно лишает ее всякого смысла, так как в присутствии бога это уже не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Альтернатива известна: либо мы не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем боге, либо мы свободны и ответственны, а бог не всемогущ. Все тонкости различных школ ничего не прибавили к остроте этого парадокса.
го понятия, я сталкиваюсь со вторым парадоксом. Чтобы хранить верность методу, мне нет нужды обращаться к метафизической проблеме свободы. Меня не интересует, свободен ли человек вообще, я могу ощутить липа свою собственную свободу. У меня нет общих представлений о свободе, но есть лишь несколько отчетливых идей. Проблема «свободы вообще» не имеет смысла, ибо так или иначе связана с проблемой бога. Чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин. Эту проблему делает особенно абсурдной то, что одно и то же понятие и ставит проблему свободы, и одновременно лишает ее всякого смысла, так как в присутствии бога это уже не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Альтернатива известна: либо мы не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем боге, либо мы свободны и ответственны, а бог не всемогущ. Все тонкости различных школ ничего не прибавили к остроте этого парадокса.
Миф о Сизифе.
Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полшать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.
Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не вижу здесь противоречия. Имеются различные мнения о том, как он стал вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты. Эгипа, дочь Асона, была похищена Юпитером. Отец удивился этому исчезновению и пожаловался Сизифу. Тот, зная о похищении, предложил Асону помощь, при условии, что Асон даст воду цитадели Коринфа. Небесным молвиям он предпочел благословение земных вод. Наказанием за это стали адские муки. Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустев-
шего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть, из рук ее победителя.
Говорят таюке, что, умирая. Сизиф решил испытать любовь жены и приказал ей бросить его тело на. площади без погребения. Так Сизиф оказался в аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень.
Уже из этого понятно, что Сизиф — абсурдный герой. Такой он и в своих страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений — он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем представить только напряженное тело, силящееся поднять огромный каме
|
|
|


