 |
Книга Отчаяние читать онлайн
|
|
|
|
Select rating Дать оценку 1/5 Дать оценку 2/5 Дать оценку 3/5 Дать оценку 4/5 Дать оценку 5/5
Дать оценку 1/5
Дать оценку 2/5
Дать оценку 3/5
Дать оценку 4/5
Дать оценку 5/5
Средний балл: 4.1 (13 голоса)
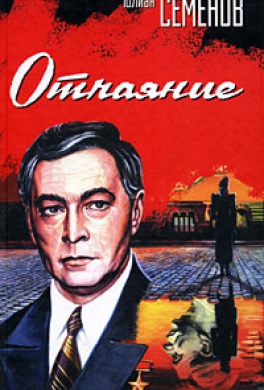
Автор: Юлиан СеменовПоделится:
Жанр: Детективы; Политические детективыСерия: Политические хроники
Язык оригинала: русскийГод издания: 2008 год
Перевод: Перевод не указан.Издательство: Астрель
Книги из этой серии:
Бомба для председателя;
Третья карта;
Нежность;
Испанский вариант;
Бриллианты для диктатуры пролетариата;
Пароль не нужен;
Экспансия — III;
Экспансия — II;
Экспансия – I;
Семнадцать мгновений весны;
Приказано выжить;
Майор «Вихрь»;
Альтернатива;
Изменить размер шрифта - +
| Юлиан Семенов. Отчаяние Политические хроники - 13 Светлой памяти моего друга Шандора Рада ("Дора") посвящаю И Аверелл Гарриман, посол Соединенных Штатов, работавший в Москве всамые сложные годы великого противостояния, и сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэддл Смит передавали в государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать сбалансированными. Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации из тех норм и законов, которые были записаны в их Конституции и охранялись их прессой, Конгрессом, Сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его коллеги: они старались не пропустить ни единого перемещения, ни. единого контакта членов Политбюро друг с другом; однако налицо было дружество и доброжелательная монолитность. Шок, вызванный смещением маршала Жукова, которого западные эксперты прочили в члены Политбюро, прошел за год: сенсация на Западе недолговечна -- их там каждый день подбрасывают, успевай глотать. Постепенно Жукова забыли, ибо он остался жив и даже продолжал командовать военным округом....Главная ошибка американцев -- после забвения "дела" Жукова -- заключалась в том, что они по-прежнему считали всех тех людей, которые выходили в кургузых пальто и кепках (кроме, пожалуй, Молотова и Вышинского) следом за Сталиным на Мавзолей первого мая и седьмого ноября, единым, сконцентрированным целым, командой, подобной тому штабу, который собирал вокруг себя каждый президент Соединенных Штатов Америки. Они считали, что после краха Троцкого и Бухарина (обоих терпеть не могли в Нью-Йорке за их революционную деятельность) Сталин остался с теми, кому верит беззаветно, как и они ему. Они привыкли к тому, что рядом со Сталиным всегда стояли Молотов и Ворошилов, дальше -- Жданов, Микоян, Каганович, Вознесенский, Маленков, Берия и Суслов. Когда же, однако, Георгий Маленков не появился на трибуне Мавзолея, часть дипломатов предположила, что аппаратчик переброшен на высший пост в Узбекистан, потому что, видимо, оттуда идет главный поток военной помощи отрядам Мао Цзэдуна. Вопрос о том, кто победит в Китае, -- вопрос вопросов для Сталина; не ктб иной, как Троцкий, обвинял Сталина в том, что его политика привела к путчу Чан Кайши и разгрому коммунистов в этой пятисотмиллионной стране... И лишь один человек -- корреспондент британской газеты, никогда не рекламировавший то, что его дед был русским и заставил его выучить этот язык, -- сделал довольно серьезный анализ глубинных явлений, происходивших в Кремле. Именно он пришел к выводу, что "старая гвардия", ' окружавшая Сталина на Мавзолее, свои позиции теряет -- это "мертвые души", хотя Сталин подчеркнуто дружески переговаривался с ними на трибуне, внимательно их выслушивал и улыбчиво соглашался со всем тем, что они ему говорили. |
|
|
|
|
|
|
Именно этот журналист определил для себя группу молодых лидеров,
которые шли за своим ледоколом -- будущим преемником генералиссимуса Андреем
Ждановым. Этими "младотурками" он считал члена Политбюро, заместителя
Сталина в правительстве, председателя всемогущего Госплана Вознесенского,
великолепно проявившего себя как член Государственного Комитета Обороны, и
нового секретаря ЦК Кузнецова, героя ленинградской блокады, занявшего
ключевой пост Маленкова: " кадры, армия, государственная безопасность. Им,
этим ленинградцам, противостоял Берия, введенный в Политбюро вместе с
Маленковым лишь в сорок шестом году. Теперь, однако, когда Маленков
отправился в тот регион, куда в свое время был сослан бывший вождь
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Троцкий, маршал Берия остался один на один
в своем противостоянии могущественной ленинградской троице.
Версия, что Маленков руководил помощью Мао Цзэ-дуну, отвергалась
англичанином; если такая помощь и существовала, то шла она через Алма-Ату,
Монголию и Хабаровск.
Англичанин, все еще имевший как журналист определенные выходы на
русских, узнал, что Ворошилов теперь -руководил в Совете Министров
культурой; это смехотворно -- культурой в стране руководил Жданов; в
Министерстве иностранных дел все большую cилу набирал Вышинский; постепенно
и аккуратно Молотова отводили в тень. Почему?
И британский журналист пришел к выводу: предстоит очередная схватка.
Жданов, нынешний "человек No 2", начал проводить свою русификаторскую
политику. По Москве пошли шутки, произносимые, впрочем, шепотом: "Россия --
родина слонов". Действительно, из установок Жданова следовало, что все
важнейшие изобретения в мире принадлежат Советам, время преклонения перед
"гнилым буржуазным Западом" прошло; два грузина в Политбюро -- слишком
много, Сталин, постоянно подчеркивавший примат русского, -- с ноября сорок
первого,-- мог пойти на то, чтобы пожертвовать Берия, вернув его в Грузию.
Опасаясь публиковать свой прогноз, чтобы не быть в тот же день
выкинутым из Москвы, англичанин ограничился туманным комментарием по поводу
того, что, видимо, в Узбекистане, да и вообще в Азии, предстоят серьезные
перемены, если туда направлен такой авторитетный член Политбюро, каким по
праву считается Маленков, постоянно стоявший на трибуне Мавзолея вместе с
Лаврентием Берия.
...На самом же деле ситуация была куда более сложной и напряженной, чем
мог предполагать англичанин, верно почувствовавший нечто, но незнакомый с
великим таинством византийской интриги...
Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный,
изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо: человека, который
приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все
было съедено.
|
|
|
Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный,
изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо: человека, который
приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все
было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное, потому что сразу после
этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье; противиться судьбе он
был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно.
Однажды, правда, сказал:
-- Я все время потный... Очень жарко... Можно принять душ?
-- Никс фарштеен, -- ответил человек, и тогда Исаев понялучто все эти
дни уху ему приносил русский.
Не может быть, сказал он себе, чтобы наши проломили мне голову в порту;
это какой-нибудь власовец; я не имею права ему открываться; какое же это
было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства, и открылся, и слышал
своих, ел щи и картошечку с селедкой, и постоянно торопил товарищей,, чтобы
они выехали туда, где ждал помощи Роумен с запеленутым Мюллером, а они
успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже, мол, поехали; хотите
еще рюмашку; надо расслабиться; вы ж дома, сейчас мы вас довезем до порта,
тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас, пойдете по седьмому
причалу, там вас встретят, угощайтесь, дорогой...
Как же лихо меня перехватили, сонно думал он; стоило нашим отстать на
сто метров всего, стоило мне остаться одному -- и все! Я ж знал, что меня
пасут, постоянно, каждодневно, ежечасно пасут, надо было бежать сквозь этот
масляный, липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходен
нашего корабля, а я не бежал, у меня сил не было бежать, и какой-то вялый
туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающий треск в
темечке, и это было последнее, что я ощутил тогда, на берегу Атлантики, в
душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами, -- у каждого каната в
порту свой особый запах, странно, почему так?
...Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног 'веревки, и вел в
туалет; дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился
над узкой горловиной гальюна; на корточках долго сидеть не мог, снова ломило
в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка, когда ж это
было? Как ее звали? Кыбы-вирахи? Или это вождь, ее муж? Ее звали Канксбрихи,
кажется, так...
...На гвозде висел один лист белой бумаги, его приходилось долго
разминать, потому что бумага была канцелярская,-твердая, чуть ли не картон.
-- Слушайте, -- сказал как-то бессловесному человеку Исаев, -- неужели
на судне нет пипифакса?
-- Никс фарштеен, -- заученно ответил тот, надевая на запястья Исаева
наручники.
...Он мог осознанно, поэтапно думать лишь утром, перед походом в гальюн
-- до ухи и перед ухой-ужином; все остальное время лежал в мокром
беспамятстве, руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном, тело
задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту
судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а
явь, самая что ни на есть реальность.
|
|
|
Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что
брюки не держались на нем -- от жары похудел; попросил дать ремень.
-- Нике фарштеен...
Через несколько дней он сказал:
-- Переверните матрац, он мокрый, вы меня так живым не довезете,
накажут...
-- Нике фарштеен, -- ответил человек, и в глазах у него сверкнуло
ледяным, искристым холодом.
Однако назавтра, когда его повели в гальюн, матрац заменили: вместо
того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочевиной труху,
бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо:
"т/х Валериан Куйбышев".
...Значит, правда, сказал он себе; значит, все, что я гнал от себя все
эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, -- правда.
С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и
Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в Октябре.
Он в три дня легко освоил вождение "мотора" и попеременно возил на
французском авто Антонова-Овсеенко и Подвойского.
Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Ли-бером; встречались
редко, ночью, чаще всего под утро.
-- Севушка, -- говорил тогда отец, -- ты с теми, кто не хочет думать о
реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку! Нельзя отбрасывать всех, кто
начинал революцию в этой стране, сие чревато...
-- Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит:
"России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора
действовать!" Это же страшно, папа: призыв к "сильной личности" означает
путь в военную диктатуру или новую монархию -- пусть наполеоновскую, но
монархию! А вы? Что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа?
"Ждать"?! Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же
повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами... Армия доведена до
белого каления,
армия готова на все -- она не прощает проигранных войн...
-- Лебедь,- рак и щука, -- вздохнул отец. -- Когда сегодня Керенский
назвал происходящее на улицах "бунтом черни", Мартов заклеймил его как
человека, объявившего гражданскую войну революции... Даже член партии
Керенского, чистейший Миша Гоц потребовал от Временного правительства
программы... Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма --
болтовне и пустым дебатам, -- но нельзя требовать власти одной партии, это
такая же диктатура, как бурцевская "сильная личность"... Я обещаю тебе
поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто
играет азартную игру во власть...
-- Предложение? -- сухо спросил он отца.
|
|
|
.. Я обещаю тебе
поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто
играет азартную игру во власть...
-- Предложение? -- сухо спросил он отца. Как же мы умеем обижать
максималистским тоном, как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не
может быть однозначных ответов...
Отец тогда посмотрел на него с укором:
-- Думать, Севушка, думать... Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым
болеем традиционной болезнью -- споры, поиск оптимального пути, составление
резолюций, просчет вероятии, боязнь крутых решений... Все верно, сынок, на
то мы и русские, но примет ли народ западноевропейскую модель революции,
которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?
...Когда человек принес уху, Исаев собрал себя, был готов к работе:
натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал:
-- Воды-ы-ы... Умираю... Скорей...
Он перешел на русский; да, я у своих, "т/х Куйбышев", но свой ли я этим
своим?!
А если я им не свой, значит, пришло время работать.
Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими
громадными бутсами, и, когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или
какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу, стекла в угол
отсека, -- в такт работе машин, -- Исаев расслабился и сказал себе: времени
тебе отпущено немного, начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе
верить, -- как можно верить перебежчикам вроде Бажанова, Кривйц-кого,
Раскольникова?!
А ты, спросил он себя, ты, который был весь Октябрь в Смольном, ты
искренне верил тому, что писали о нас в конце тридцатых? Нет, ты не верил,
ответил он себе со страхом, но ты считал, что дома происходят процессы,
подобные тем, что- сотрясали республиканский Конвент Франции, -- Марат,
Дантон, Робеспьер... А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном?
Отвечай, приказал он себе, ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив
диагноз, преступно... Почему Антонов-Овсеенко тогда, в Испании, во время
последней встречи, смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской?
Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова:
"приказано выжить"? Почему он запретил тебе возвращаться домой? Почему он
повторял, как заклинание: "Главное -- победить здесь фашистов..."
А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали --
накануне войны?! Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу
против нацизма?
Ты боялся, признался он себе, ты попросту боялся, потому что все те,
кого начиная с тридцать седьмого вызывали в Москву, исчезли навсегда,
бесследно, словно канули в воду...
Ты спрятался за спасительное антоновское "приказано выжить", ты решил
ждать... Сын своего отца -- ожидание никогда не приводит к победе.
.. Сын своего отца -- ожидание никогда не приводит к победе... Точнее
-- "одно ожидание"... Не надо так категорично отвергать великое понятие
ждать... Ждут все: и Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к
казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и
тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту,
когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя
придуманной самозащитой: крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению
морального климата дома...
Не ускользай от самого себя, приказал он себе. Ответь раз и навсегда:
ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Радек, Кедров, Уншлихт -- шпионы и
враги?
Ты никогда не верил в это, сказал он себе и почувствовал освобождающее
облегчение. Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих
друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас, у своих, ты
должен исповедоваться перед самим собой?! Это не исповедь, а пытка, это
страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом, а моих друзей
убивали мои же друзья...
Он вспомнил их маленькую квартирку в Берне, вечер, отца возле лампы,
книгу, которую он держал на своей большой ладони -- нежно, как
новорожденного; вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые и
поныне звучали в нем;'-- особенно трагичные: "Отче святый, -- говорили
недовольные Годуновым патриарху Иову, -- зачем молчишь ты, видя все это?" Но
чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал; "Видя
семена лукавствия, сеямыя в винограде Христовом, делателе изнемог и, только
господу Богу единому взирая, ниву ту недобруя обливал слезами..."
А потом отец читал о некоем человеке князя Шесту-нова по имени Воинко,
который донес на своего, барина, и за это ему сказали царское жалованное
слово и отбла- ' годарили поместьем. "И поощрение это произвело страшное
действие: боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и,
сговорившись человек по пяти-шести, один шел доносить, а других ставил в
свидетели; тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили
пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали,. а доносчиков царь
Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместья, а иным -- из
казны -- деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута: доносили
друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, даже жены доносили на
мужей своих, а дети -- на отцов, так что от такого ужаса мужья таились от
жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной, многие от
пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали"...
Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и
заключил: "Борис не мог проникнуться величием царского сана и "счерпнуть в
нем источник спокойствия и милости.
. Борис и на престоле по-прежнему
оставался подозрительным... Он даже.молитву придумал особую для подданных,
при заздравных чашах: "Борис, единый Подсолнечный Христианский царь, и его
царица и их царские дети на многие лета здоровы будут"..."
А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту
пору? Не отгадаешь: полмиллиона человек! Зато хоронили всех за царские
деньги, а хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис запретил:
"Негоже иноземцам знать про наши дела, мы самая богатая держава Европы,
такого мнения и держаться станем!"
...Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются
двое -- один в бутсах, знакомый ему "никс фарштеен", а второй ступает мягче,
видимо, в ботинках.
Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в
плавках, и с докторским чемоданчиком в руке.
-- Эй, -- сказал он, всячески избегая русских слов, -- блют прессион,
гиб мир ханд...
Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от
безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили; если
позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди,
а у него выработалось особое отношение к себе -- он постоянно видел себя как
бы со стороны, так же оценивал свои поступки; не тердел неряшливости, был
точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от
силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как
"забыл", "не успел", "не смог".
-- Пусть наручники снимет, -- прошамкал Исаев. -- Как же вы мне
давление померяете?
-- Никс фарштеен, -- повторил тот, что в бутсах, и снял наручники.
...Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом, недоступном
нам знании на собственном опыте; он научился сдерживать дыхание, учащать
пульс, останавливать его даже; ну, меряй, подумал он, я тебе подыграю,
испугаешься...
Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не
было угарного машинного смрада, обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды
-- она была сладкой, без подмеси, поэтому проснулся он рано, часа за три
перед тем, как должен прийти уханосец. Он был убежден, что не ошибается во
времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от
него хотят свои!
...На третий день корабль пришвартовался: голосов по-прежнему слышно не
было. Спустился "никс фарштеен", снял наручники, бросил пиджак и туфли,
дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив
под руку, повел по скользким, маслянистым лестницам наверх.
На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал.
Сколько был в беспамятстве -- не помнил, ощутил себя на кровати,
шелковая подушка, мягкое, верблюжьей шерсти одеяло.
Руки и ноги были
свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим "кельнскую воду".
Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее:
стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми
металлическими ставнями; в туалете нашел английскую зубную пасту, английское
мыло.
Ты дурак, Исаев, сказал он себе; ты посмел грешить на своих и
раскрылся, ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века, тебе крышка,
одна надежда и осталась -- на своих. Мыслитель сратый, русскую смуту
вспоминал! А чем она отличалась от тех, что были в Англии?..
-- Здравствуйте, я ваш следователь, меня зовут Роберт Клайв Макгрегор.
После того как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката: если
бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката
уже на этой стадии следствия.
-- А кем я был? -- поинтересовался Исаев.
-- Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть
следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно
расставить все точки над "i".
-- Могу я задать вопрос?
-- Пока мы не начали работу -- да.
-- Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете...
-- Я представляю секретную службу Великобритании.' Удовлетворены
ответом?
-- Вполне. Благодарю.
-- - Фамилия, имя, место и год рождения?
Исаев готовился к такому вопросу, он понимал, что все зависит от того,
кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова, но,
услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить...
...Приученный двадцатью, пятью годами к тому, чтобы анализировать,
рассматривая и оценивая с разных сторон не то что слово, но даже паузу,
взгляд и жест -- как свой, так и собеседника, -- Исаев был убежден, что
своим, вернись он на Родину, и отвечать не придется, там все знают... Однако
во время морского, столь страшного путешествия с "никс фарштеен" он
раскрепощенно, с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец услышать
тот вопрос, который жил в нем начиная с тридцать шестого года, после
процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым: "А, собственно, кто теперь
знает обо мне, ееяи Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер Центра Валя
Ольберг -- враги народа?"
В тридцать седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто
знал его отменно: Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзинь, Пузищшй, он
ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с
изначалием; с осени тридцать девятого люди из Центра вообще перестали
выходить на него.
Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания:
объективные -- находил, но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и
живет своими законами в системе таинства под названием "Человек".
Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания:
объективные -- находил, но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и
живет своими законами в системе таинства под названием "Человек".
...Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого,
резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и
Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого,
у них было три встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на
туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки; тогда
его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту,
странно...
Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в тридцать
седьмом еще, Исаев затаился: "если он предал -- значит назовет имена
Шандора, Треппера и мое". Цепь, однако, продолжала функционировать; отозвали
трех товарищей -- видимо, боялись за них, но потом докатилось, что дома их
расстреляли...
Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг? Значит,
он не открыл имен товарищей по борьбе с нацизмом? Значит, действительно он
ушел по идейным соображениям? Предатель в разведке прежде всего открывает
имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о
них...
".Кривицкого убили, он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не
был схвачен; значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не
измены?
Тем не менее Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь
понять, нет ли какой-то связи между происходящим дома и тем, что ежечасно
затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных
квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как
никто другой, он четко знал внутренние границы рейха: "это мое дело, это мой
агент, это моя информация -- не вздумай к ним прикоснуться; собственность".
Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на
партконференции из ЦК "за плохую работу" был выведен бывший нарком
иностранных дел Литвинов; иначе, как "паршивый еврей, враг НСДАП", его в
Германии не называли.
Именно тогда в баре "Мексике", крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем
Штирлица и, бряцая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех
разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул:
-- Зачем война на два фронта? Ведь Сталин расстилается перед нами! Он
капитулировал по всем параметрам! Он подстраивается под наши невысказанные
желания, чего ж больше?!
Штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав,
что ответа может ждать только один день, дал адрес отеля -- не своего, а
того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда
остановился "паккард", вышли трое: заученно разбежались в разные стороны --
рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл
там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.
Через пять часов неподалеку от парадного подъезда
остановился "паккард", вышли трое: заученно разбежались в разные стороны --
рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл
там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.
Через десять минут Исаев позвонил портье, назвался Зооле-- тем
псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему,
директору Любекского отделения банка, господин высокого роста в бежевой
шляпе.
-- Он только что ушел, господин Зооле, очень сожалею! Хотите, чтобы я
послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси.
-- Нет, спасибо, -- ответил Исаев, -- пошлите вашего человека в отель
"Метрополь", это наискосок, пусть оставит портье письмо моего друга, он же
принес мне письмо?
-- Оно передо мной, господин Зооле, сейчас оно будет в "Метрополе".
В шифрописьме говорилось: "Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам
возвращаться рискованно, позвоните в посольство, назовитесь и оставьте
адрес, о вас позаботятся..."
Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и
взял билет в Берлин...
А может быть, действительно в стране случилось самое страшное и к
власти пришли те, кто хочет Гитлера? Кто же его хочет?
И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос -- жалко, сломанно, с
ощущением мерзкой гадливости к самому себе
...Куда бы я отсюда ни бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в
который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию,
меня всюду будут воспринимать как оберштурмбаннфюрера СС, врага, нациста,
губителя демократии... Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому
что враги начнут кампанию: "гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в
разведке, совместимость"... Вальтер Кривицкий ушел чистым... Я служил в
РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на
руке...
Ну ты, сказал он себе, вернувшись в Берлин, сейчас надо сделать все,
чтобы вернуться -- нелегально -- домой. И уничтожить там тех, кто предал
прошлое. Это высшая форма преступления -- предательство прошлого. Такое не
прощают. За это казнят... Ты способен на это? Или ты трус, спрашивал он себя
требовательно, с бессильной яростью.
Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал
фрагменты плана "Барбаросса", а затем в марте сорок первого получил шифровку
из Центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса:
"Ситуация в Югославии складывается критическая, враги народа,
провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы, просим включиться в активную
работу".
Исаев испытал тогда счастливое облегчение, уснул без снотворного,
однако наутро проснулся все с той же мыслью: "Значит, ты все простил? Ты все
забыл, как только тебя поманили пальцем?"
Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою, и
поэтому он круто возразил себе: "Меня поманили не пальцем, я не проститутка,
мне открыто сообщили, что были репрессии и что с приходом нового наркома
Берия прошлое кануло в Лету: Марат -- Дантон -- Робеспьер; революция не
бывает бескровной.
-- Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор...
Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву "Винстон", записал ответ в лист
протокола и перешел ко второму вопросу:
-- Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?
-- И на этот вопрос я отвечать не стану.
-- Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской
организации?
-- Прочерк, пожалуйста... Макгрегор улыбнулся:
-- Насколько мне известно, понятие "прочерк" присуще лишь тоталитарным
государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ.
-- Я не отвечу и на этот вопрос.
-- Имя и девичья фамилия жены?
-- Я не отвечаю
-- У вас есть дети?
-- Не отвечаю...
Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:
. -- С наиболее скучными вопросами мы покончили, теперь перейдем к
делу.
Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную
кем-то в Швейцарии возле пансионата "Вирджиния", когда он искал несчастного
профессора Плейшнера:
-- Знаете этого человека?
-- Чем-то похож на меня... Но это не вы?
-- Нет, это не я.
Макгрегор пододвинул папку:
-- Поглядите: там есть ваши фото в форме, вместе, С Шелленбергом в
Лиссабоне, данные из вашего личного Дела, характеристики...
Все верно: Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец,
отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам
НСДАП, характер,/нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей " с
врагами рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял,
никто из близких не был арестован гестапо...
-- -Этого человека знаете? -- усмехнулся Макгрегор. -- Или нужны очные
ставки?
-- Я бы не отказался от очных ставок.
-- Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше
собеседование.
-- Мистер Макгрегор, собеседования не получится. Я не стану отвечать ни
на один ваш вопрос. Тот покачал головой:
-- На один ответите: как вы себя чувствуете после столь отвратительного
путешествия? Пришли в себя?
-- Да, в какой-то мере.
-- Врач не нужен?
-- Нет, благодарю.
-- Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать
номер вашей эсэсовской татуировки.
Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав,
дал сфотографировать татуировку -- невыводимо въедливую: тысячелетний рейх
не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.
...А потом в эту комнату с металлическими тяжелыми ставнями ввели
штурмбаннфюрера СС Риббе из гестапо -- сильно похудел, костюм болтается,
глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.
-- Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать
номер вашей эсэсовской татуировки.
Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав,
дал сфотографировать татуировку -- невыводимо въедливую: тысячелетний рейх
не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.
...А потом в эту комнату с металлическими тяжелыми ставнями ввели
штурмбаннфюрера СС Риббе из гестапо -- сильно похудел, костюм болтается,
глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.
-- Вы знаете этого человека? -- обратился к нему Макгрегор.
-- Да, он мне прекрасно известен, -- монотонно-заученно отрапортовал
Риббе. -- Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки,
доверенное лицо бригадефюрера Шелленберга.
-- Вам приходилось работать со Штирлицем?
-- Нет.
-- Благодарю вас, -- с традиционным оксфордским придыханием учтиво
заметил Макгрегор, -- можете возвращаться к себе.
Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника
владивостокской контрразведки в двадцать втором -- последней обители белой
России.
-- Знаете этого человека?
Воленька был в отличие от Риббе совершенным живчиком с сияющими
глазами, похудевший, но не изможденный, на Исаева смотрел с восторженным
интересом:
-- Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим! И вы здесь!
-- Мистер Пимезов, -- неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то,
прервал его Макгрегор, -- пожалуйста, без эмоций! Отвечайте только на мои
вопросы! Вам знаком этот человек?
--.Конечно! Это Исаев, Максим Максимович... Макгрегор обратился к
Исаеву:
-- Вы знаете этого человека?
-- Нет.
-- Мистер Пимезов, -- меланхолично продолжал Макгрегор, -- когда, где и
при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к
опознанию?
-- Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты
господина Ванюшина у нас во Владивостоке начиная с двадцать первого...
Исаев почувствовал, как сжало сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его
глаза, полные слез, когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на
шкуре белого медведя -- главном украшении трехкомнатного люкса, -- дал ему
заметочку из газеты: "Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим
Максимович! Или хотите я? Вслух? С выражением? А? Извольте: "Вчера у
мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению
в нарушении общественной тишины... Корреспондент этот, Фредерик Раннет,
сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и
всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом... Заключив пари,
Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху.
.. Заключив пари,
Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приговорил Раннета к
семи дням ареста"... А?! Каково?! И-заголово-чек: "В России все можно!". У
нас все можно, воистину! Вон мне давеча наш премьер Спиридон Дионисьевич
Меркулов излагал свое кредо: "В репрессалиях супротив политических
противников дозировка не потребна, друг мой! Тот станет у нас великим, кто
пустит кровь вовремя и к месту -- тогда пущай ее хоть реки льются... Это
вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить, людскую
страсть утихомирить! Главное -- врагов назвать, от них беда, не от самих же
себя?!"
-- Что вы можете сказать о деятельности Исаева? -- Макгрегор смотрел на
Пимезова с легкой долей презрения.
-- Блестящий журналист, "перо номер два", его обожали в Приморье...
-- Что имеете добавить к этим показаниям?
-- То, что в течение последних семи месяцев, перед тем-как банды
Красной Арм
|
|
|


