 |
Выбор воображаемого партнера: с кем и чем играть.
|
|
|
|
Ну что же это такое? Я все говорю, говорю, говорю, а главного не называю — не называю имени того, с кем собираюсь играть.
Кто он? Ну, конечно, Шекспир.
Bill the First and Sole, Билл Первый и Единственный — величайший властелин вселенской сцены.
Человек, сказавший человечеству главную правду о нем: "Весь мир — театр, а люди в нем — актеры".
Английский классик, без особых усилий ставший классиком русской сцены. Властитель британских дум, покоряющий с начала XIX века лучшие умы российской литературы:
ПУШКИН: "Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира..."
ГОГОЛЬ: "Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь поставить их как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус... Возьми самую заигранней-
¶ 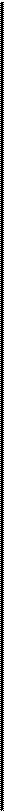 шую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля".
шую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля".
ДОСТОЕВСКИЙ: "Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромною своею частию заключается в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего Слова. Изредка появляются пророки, которые угадывают и высказывают это цельное слово. Шекспир — это пророк, посланный богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человеческой".
Первый значительный труд русского театроведения назывался "Гамлет" — драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета". Тургенев написал "Степного короля Лира", Лесков — "Леди Макбет Мценского уезда". Блок, в юности сам сыгравший датского принца на сцене, написал с трепетом: "Я — Гамлет. Холодеет кровь..." Другой великий поэт нашего века, отдавший переводам из Шекспира много лет, тоже примерял на себя костюм и парик коронной трагической роли: "Гул затих. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку..." Ни один прославленный русский артист не позволил себе не отметиться у Шекспира, ни один более-менее значительный наш режиссер не миновал шекспировской постановки, и всегда встречи с эйвонским лебедем становились этапами их биографии.
|
|
|
Мне в этом смысле крупно не повезло. При всей любви к знаменитому англичанину на шумной театральной сцене я не поставил его ни разу. Имелись, само собою, кой-какие опусы и опыты, но были это в основном фрагменты (сценки, отрывки, акты из пьес, иногда композиции) и рождались они в экспериментальном порядке в узком кругу учеников и ближайших знакомых. Почему так случилось — не очень понятно. То ли не проявил необходимой проворности, не захотел поработать локтями? То ли просто струсил? А может быть, помешала несоизмеримость личностных масштабов (моей личности и личности Большого Билла), и я пал жертвою собственной скромности? Доотказывался на потом? Кто знает, кто знает? Факт остается фактом: Потрясающего копьем (Shakespeare) я не ставил, не считая, как говорится, мелких и мельчайших брызг.
Факт, согласитесь, не особенно приятный, и переживал я его, хотя и сугубо про себя, но довольно часто. Однажды придумал целую успокоительную теорию: в период НТР специализация, мол, усиливается настолько, что почти все бывшие профессии дробятся теперь на узкие специальности. В Голливуде вон работают над сценарием по пять-шесть человек: один придумывает только сюжет, другой сочиняет только диалоги, третий предлагает трюки, четвертый — специалист по экзотике или эротике, а пятый — разбивает все по планам: кр. план, ср. план, общ. план, самый общий... но зачем ходить так далеко — в соседнем с нами советском балете есть и балетмейстеры-педагоги, и балетмейстеры-репетиторы, и балетмейстеры-хареографы, то есть постановщики; каждый сверчок знай свой шесток. Да и у нас, в родном драматическом театре давно уже установилось неофициальное деление режиссеров на педагогов и постановщиков. Почему бы этому разделению труда не продолжиться — один будет ставить, другой обучать и тренировать актеров, третий изучать пьесу и анализировать ее... но стройная "теория" лопалась как радужный мыльный пузырь, стоило мне только вспомнить Б. И. Равенских. Не раз и не два он сетовал на то, что в нашем театре, как в болоте, развелось слишком много головастиков: разберут пьесу умно и ловко, а собрать не могут. У них, как у плохого часовщика, часы после сборки не идут. Превосходный этот режиссер обладал чувством юмора. После одного предложения Бориса Ивановича аудитория минут пять заи-
|
|
|
¶калась от хохота. Равенских предлагал написать на афише спектакля не "поставил такой-то", а "разобрал такой-то". Б. И. смеялся вместе со всеми, озорно и заливисто: уж сам-то он часы собирал превосходно.
Но вот настали другие времена, и в свете установок игрового театра шутка веселого режиссера обернулась предвидением. Теперь в разудалой атмосфере театральной игры все становится возможным. Любое абсурдное предложение, любую хохму, были бы они по-настоящему смешными, можно превратить в правила игры.
И вот я уже зазывно кричу вам веселым и визгливым дискантом:
— Эх, была не была! Где наше не пропадало! Не удалось поставить Шекспирулю, так хоть разберем его как следует! Вволю! Всласть! По самому высшему классу!
Почему Шекспир, вам теперь понятно.
Ваше молчание принимается как знак вашего согласия.
Осталось ответить на вопрос, какою игрушкой будем играть, то есть какое из произведений Шекспира станет объектом игрового надругательства? — простите, простите ради бога, — объектом режиссерского анализа?
Конечно же, шедевр шедевров, совершеннейшая из его поздних трагедий — "Макбет".
Почему же именно "Макбет"?
В первую очередь потому, что очень уж нравится. Среди драматургических перлов мировой классики мне трудно выбрать такой, который я любил бы больше.
|
|
|
Кроме того, в отличие от большинства ученых-театроведов и не очень ученых коллег по режиссуре, я считаю "Макбета" вершиной шекспировского творчества, последней из великих его трагедий. До "Макбета" написаны и "Ромео и Джульетта", и "Гамлет", и "Отелло", и "Король Лир", после него — ничего подобного по значительности и трагизму, ничего, что могло бы сравниться с перечисленными пьесами. "Антоний и Клеопатра", "Кориолан" и "Тимон Афинский", конечно же, шедевры, но это шедевры угасания, шедевры нисходящей линии, Искры затухающего костра.
"Макбет" вобрал в себя грандиозный опыт, все достижения венецианской и британской трагедий, вобрал и исчерпал.
Не все разделяют такую точку зрения на шотландскую трагедию. Все, кто признает ее величие и ее законное место среди великих трагедий, все время как бы оговариваются в скобках: исключение "Макбет", кроме "Макбета", только не в "Макбете" и т. п., как бы извиняя этими оговорками некую неполноценность пьесы, но тем самым подчеркивая ее исключительность, уникальность. Мы с вами, вместо этих непонятных реверансов будем трактовать эту исключительность буквально — как признак превосходства.
"Макбет" и в самом деле уникален в трагической галактике Шекспира.
"Макбет" — самая короткая трагедия великого драматурга. Он короче "Гамлета" более чем вдвое. Другой, более короткой трагедии у английского автора нет — всего 1993 строчки. А эта исключительная краткость, как подметил преемник Шекспира, Антон Павлович, свидетельствует о концентрации таланта.
"Макбет" — самая тихая из трагедий Шекспира. В ней всего три многолюдных сцены, тех, что мы привыкли называть массовками: обнаружение убийства Дункана, пир у нового короля и праздник победы Малькольма над Макбетом. Есть еще несколько сцен, где действуют пять-шесть персонажей на отодвинутом вглубь и молчаливом фоне
¶ 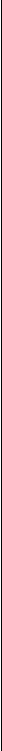 охраны или передислоцирующихся воинских подразделений. В основном же это тихие и уединенные встречи двух-трех, максимум четырех участников — в глуши лесов, в дальних комнатах, в углах и закоулках замка, в ночной тишине. И очень много монологов-раздумий один на один с совестью или бедой. Даже битва раздроблена на осколки парных поединков. Такой жутковатой тишины нет больше ни в одной из трагедий. Можно прибавить, что "Макбет" и самая интимная трагедия: спальня супругов — и то, что в ней происходит — отбрасывает греховные отблески на все пять ее актов.
охраны или передислоцирующихся воинских подразделений. В основном же это тихие и уединенные встречи двух-трех, максимум четырех участников — в глуши лесов, в дальних комнатах, в углах и закоулках замка, в ночной тишине. И очень много монологов-раздумий один на один с совестью или бедой. Даже битва раздроблена на осколки парных поединков. Такой жутковатой тишины нет больше ни в одной из трагедий. Можно прибавить, что "Макбет" и самая интимная трагедия: спальня супругов — и то, что в ней происходит — отбрасывает греховные отблески на все пять ее актов.
|
|
|
"Макбет" — самая мрачная трагедия Шекспира. Действие ее, в отличие от других пьес, происходит в основном в темноте — вечерами и ночами. Сумерки после боя — встреча с ведьмами, глухая ночь убийства Дункана, сумерки в парке — нападение на Банко, ночной пир с явлением призрака жертвы и приходом наемных убийц, кровавый вечер в замке Макдуфа и т. д. и т. п. — вплоть до последней бредовой ночи с королевой-сомнамбулой. На трагической сцене "Макбета" царит не только тишина, но и тьма. Чернота зловещих замыслов. Темень преступных воплощений. Непроглядный мрак погубившей себя души. Более того, "Макбета" можно назвать и самой жестокой трагедией Шекспира. В ней показаны все виды наследственного убийства: убивают старика (король Дункан), убивают человека в расцвете сил и лет (полководец Банко), убивают зверски молодую женщину (леди Макбет) и ее малолетнего сына, убивают юношу, только-только вступающего в жизнь (молодой Сивард). И все это продельшается на сцене — на глазах у зрителя. Мало того — под занавес вам подносят на пике отрубленную голову героя. Какая-то чудовищная энциклопедия насильственной смерти.
Но "Макбет" в то же время и самая поэтическая трагедия Шекспира. Трагедия-баллада. Ни в одной другой не найдете вы такой нечеловеческой красоты, таких прекрасных стихов, такой могучей образности и такого щемящего лиризма. Великий английский поэт предстает здесь перед нами в расцвете своего волшебного мастерства.
Наконец, "Макбет" — самая загадочная и самая современная пьеса Уильяма Шекспира. Он загадывает в ней свои загадки о тайнах человеческого сердца, и люди четыре столетия не могут их разгадать. Один из самых авторитетных современных шекспирове-дов Уилсон Найт в недоумении останавливается перед "Макбетом" и разводит руками. Здесь, мол, больше вопросов, чем в любой другой пьесе Шекспира. Эти вопросы нанизываются на этой фабрике тайн и сомнений, которые преследуют нас в "Макбете". Удивление здесь постоянно, как и подозрение". И еще сказано в книге Уилсона Найта "Огненное колесо": "Персонажи этой драмы истинно могут сказать вместе с Россом "мы...сами себя не знаем" (IV-II-19). Мы тоже, те, кто читает, часто в сомнении. Действие здесь алогично. Почему Макбет не знает о предательстве Кавдора? Почему Леди Макбет падает в обморок? Почему королевские сыновья бегут в разные стороны, когда целая нация готова их поддержать? Почему Макдуф переезжает в Англию с такой темной скрытностью и тайной и оставляет свою семью на верную смерть? Кто такой Третий Убийца Банко? И, наконец, почему и зачем Макбет убил Дункана? Все эти сюжетные построения, имеющие сильный привкус тайны и иррациональности, поселяются и внутри нас. Мы тоже ощупью движемся в удушающем мраке и мучаемся от сомнений и беззащитной неуверенности. Темнота пронизывает пьесу".
|
|
|
Непонятным, совершенно необъяснимым, способом Шекспир заглядывает из XVII века в XX и безошибочной, бестрепетной рукой вытаскивает из трясины нашего сего-
¶дняшнего бытия самую жгучую, самую животрепещущую проблему: как же выжить человеку в этом небывало жестоком, бесчеловечном мире?
(Пауза)
Согласитесь, что это вполне подходящий драматурптческий материал для режиссерского разбора. Высококачественный. Образцовый. Идеальный. А это для меня очень важно, потому что я тщусь предложить вам идеальный анализ пьесы. Ну что я за человек! ужас какой-то! "Идеальный, идеальный" — откуда у меня такая наглость? Образцовый анализ? — и это нескромно... Погодите, погодите. Кажется я нашел подходящее слово: потому что я хочу предложить вам показательный разбор пьесы.
10. Macbeth-story (история "Макбета" на сцене и на экране; три кульминации).
Загадочна не только сама пьеса, загадочна и ее сценическая судьба. Будучи одной из самых лучших пьес Шекспира, "Макбет" никогда не имел шумного успеха. Он всегда находился в тени, отбрасываемой то "Гамлетом", то "Отелло", то "Королем Лиром", да и ставился намного их реже. Может быть, мне просто не повезло, но, изучая историю мирового театра по самым разнообразным учебникам, монографиям и мемуарам, я нигде не встретил описания или хотя бы упоминания о триумфальной премьере "Макбета". Многие великие артисты вспоминают о своих выступлениях в роли Лира или Гамлета, но о роли Макбета если уж упоминалось, то как-то вскользь. Буквально целые тома написаны о знаменитых исполнителях роли венецианского мавра, но о том, как кто-нибудь из больших артистов играл шотландского тана, не наберется и тонкой тетрадки критического текста. Создается впечатление, что с удовольствием и трепетом корифеи театра по нескольку раз приступали к работе над Гамлетом (в молодости) и Лиром (в старости), а Макбета никто из них не играл более одного захода. Самый свежий пример: о Скофилде-Гамлете и Скофилде-Лире вот уже четверть века не могут забыть московские театры, а о Скофилде же в роли Макбета перестали говорить на другой день после окончания гастролей.
Может быть, мне не повезло и еще раз, когда я забрасывал в волны театрального моря второй невод, но среди всех сценических и экранных воплощений "Макбета", которые довелось мне увидеть за свою жизнь, не было ни одного такого, чтобы не то что потрясло, но хотя бы вызвало волнение или поразило воображение. В лучшем случае это был профессиональный средний уровень: привычная декламация, дежурный пафос и более-менее достойный стереотип трактовки. А повидал я не так уж мало — три английских спектакля, один американский и один английский кинофильм, две московских театральных версии плюс одна минская модерняга.
Так что же, спросите вы, с "Макбетом" все мимо?
Нет не все, — три превосходных режиссерских опуса вызывающе возвышаются над ровной и унылой средней линией сценического воплощения знаменитой шотландской трагедии:
— Постановка Джоан Литтлвуд в театре "Уоркшоп",
— Фильм Акиры Куросавы "Трон в крови",
— Спектакль Леся Курбаса в художественном объединении "Березиль".
Первые два я видел своими глазами, о третьем только слыхал. Давно известно, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, но вариант "увидеть курбасовский
¶ 
 боевик" для меня отпадал бесповоротно: спектакль был поставлен и стяжал свои оглушительно шелестящие лавры за несколько лет до моего рождения. Однако моя уверенность в том, что это был спектакль выдающийся, росла и укреплялась во мне все последовавшие за его открытием годы.
боевик" для меня отпадал бесповоротно: спектакль был поставлен и стяжал свои оглушительно шелестящие лавры за несколько лет до моего рождения. Однако моя уверенность в том, что это был спектакль выдающийся, росла и укреплялась во мне все последовавшие за его открытием годы.
А первым моим обалдением от "Макбета" было все же дикое, для меня тогдашнего непредставимое, уоркшоповское зрелище.
1957 год. Всемирный фестиваль молодежи. Впервые за многие и долгие годы глухой изоляции от окружающего человечества заслонки социального шлюза были подняты так высоко и так широко раздвинуты. В роскошное московское лето хльшул разноцветный поток заграничных людей со всех концов света. На каждой площади братались, плясали и пели. Мы ходили по городу ошалевшие и пьяные: воздух вселенского общения был непривычно свеж и дурманящ. Москву затопило половодье живописи, музыки и театра. Главное — театр. Чего же тут только не было! Первобытная театральность Африки, изощренный театр дальневосточной Азии, неожиданная экзотика Мексики и Южной Америки. Кукольные театры, театры теней, конкурсы пантомимы, хореографические состязания, сюрреалистический психологизм английского коммерческого театра и откровенные слитки кубинской самодеятельности. Театр глаз, театр рук, театр ног и даже театр живота. Все это надо было успеть увидеть и услышать, и мы радостно мотались по родной столице из одного ее конца в другой, весело рыскали в поисках подходящей добычи, ухитрялись побывать за день на трех-четырех спектаклях.
Однажды утром волна фестивального моря выбросила меня на берег, прямо к подъезду ермоловского театра, где запланировал я посмотреть "Макбета" в исполнении англичан. Ничего особенного от этого спектакля я не ждал: и пьеска не новая, и театрик полусамодеятельный, и режиссер — женщина. Разве мог я знать, что через два-три года Джоан Литтлвуд войдет в первую десятку режиссеров мира, а театр "Уоркшоп" станет фактом театральной истории XX века?.. Но вернемся к нашим баранам, точнее — к одному из наших баранов, а еще точнее — ко мне, снисходительно забежавшему взглянуть на уоркшоповского Шекспира. Я влип. Я попал в широко распространенную, чуть ли не типовую ситуацию под названием "пренебрежение и наказание". Все тут оказалось не так, как я самонадеянно ожидал: хрупкая мисс Литтлвуд ахнула меня по кумполу с силой, неожиданной для представительницы слабого пола.
Спектакль начался прямо с шока. Вместо приличествующей классическому спектаклю музыкальной увертюры, вместо звуковых пейзажей седой древности бесстрашная лондонская режиссерша резко убрала из зрительного зала свет и на полную железку врубила мощную фонограмму современного боя — на фоне стереофонической артподготовки солировал вой пикирующих бомбардировщиков; визжали падающие бомбы, оглушали разрывы и стаккато стрекотали короткие очереди пулеметов.
В полном мраке незаметно раскрылся занавес и цепкие лучи военных прожекторов выхватили из дымной мглы боя еще более неожиданную картину.
Высокая железнодорожная насыпь поперек перегораживала сцену. По центру насыпь была разорвана мостом-путепроводом, перекинутым через широкое стратегическое шоссе, идущее от суфлерской будки в бесконечную даль арверсцены, затянутую желтоватым (пороховым? газовым?) туманом. На насыпи слева одиноко торчали огрызок перебитого снарядом столба с обрывками телеграфных проводов, а у самого моста вниз головою висел, покачиваясь, изуродованный труп солдата с оторванной рукой. Уцелев-
¶шая его рука как бы указывала на что-то внизу, еще более жуткое и трагичное: вся левая обочина шоссе была завалена трупами военных. Они лежали вповалку в нелепых позах последнего остановленного мгновенья. Посреди горы мертвецов, по колени в них, стояла, сгорбившись, оборванная и нечесаная старуха; через плечо у старой женщины висела новенькая противогазная сумка. Я вдруг как-то сразу понял, ну, не понял, может быть, а почувствовал, что речь тут идет не о рабочей самодеятельности, что дилетантством тут и не пахнет, что режиссура здесь радикальна и что апокалиптическая картина вылеплена рукою мастера.
Старушка огляделась вокруг и опустилась на одно колено у трупа молоденького офицера. Ощупала его бока, расстегнула его нагрудный карман и вытащила оттуда пачку бумажек. Выбросила письмо, выронила фотографию, деньги развер!гула веером и, пересчитав, положила в сумку. Осмотрела кисти, с левой сняла часы, на правой увидала кольцо и стала его стаскивать с закоченевшего пальца. Кольцо никак не снималось. Злобно что-то пробормотав, старуха приложила силу. Труп дернулся, с головы его упала и покатилась на нас фуражка. Отпущенная старухой рука упала со стуком. Часы и кольцо были близоруко рассмотрены и отправлены в сумку. Потом старуха почти легла на молодого мертвеца и стала расстегивать ему мундир от ворота: одна пуговица, другая, третья. Старые скрюченные пальцы шарили по юной груди офицера — обраружился золотой медальон на цепочке. Старуха судорожно пыталась расстегнуть цепочку, разорвать ее и, в конце концов, стянула медальон через голову трупа. Как и рука его раньше, теперь упала с глухим стуком голова и стали видны широко раскрытые мертвые глаза, уставленные на самый верхний выносной прожектор...
Кощунственная игра с трупом окончена, медальон снят и костлявая мародерка приподнимается, чтобы спрятать свой драгоценный трофей. Она кладет его в противогазную сумку, она через голову надевает его себе на шею и сует за пазуху, сладострастно опуская вещицу между высохших обвисших грудей — на дряблый, подрагивающий живот. Словив странный кайф, оглядывается, будто кто-то окликает ее. И в самом деле — неподалеку от первой поднимается вторая старуха, роющаяся в рюкзаке, выкопанном из кучи мертвых тел. роется одной рукой сомнамбулически, но деловито. Спокойно и отрешенно. Так бывает, роются в красном сатиновом мешке, выуживая из него очередной бочоночек с цифрами, во время игры в лото. Старухи мрачно переговариваются между собой, а чуть подальше, у самого моста, медленно вырастает третья.
И я вздрагиваю, пораженный внезапной догадкой — это же ведьмы, три знаменитые шекспировские ведьмы! Это никакая не заставка к спектаклю, это они так вот играют "Макбета"! Они уже начали!
Похабные старухи внезапно останавливают свое кощунственное ремесло и оглядываются через плечо — одновременно и сразу, наверх и направо, — туда, где высокая насыпь уходит в кулисы. Оттуда доносится шум приближающегося поезда — стук колес и далекий лязг железа. Долгий паровозный гудок. Поезд приближается, замедляя ход. Вот он совсем рядом. Слышно тяжелое дыхание паровоза — туфф, туфф, — резкое шипение выпускаемого пара, и мне кажется, что тупой нос бронепоезда медленно и неотвратимо выдвигается на сцену. А может быть, был тогда только резкий свет паровозных фар, бивший из кулисы вдоль рельсов?..
Старухи кидаются друг к другу — стоп-кадр страха. А из бронепоезда на насыпь спускаются два боевых генерала: макинтоши-хаки, фуражки-хаки и хаки-полевые пого-
¶ны. На поясах — парабеллумы в массивных деревянных кобурах. На шее у одного из полководцев — бинокль. Генералы подходят к мосту, осматривают и замечают старух. Встреча взглядов: в глазах у военачальников — гнев, в глазах у старух — ужас. Мистический ужас пойманных на месте преступления. И поэтический ужас неизбежно предстоящего расстрела.
Скорее всего, мне не следовало бы оставлять в рукописи эту дикую по своей невозможности фразу. Убрать кощунственный этикет, и дело с концом. Но не могу, не могу. Какие-то необъяснимые, но навязчивые ассоциации привлекают меня к мысли о том, что в жертвах расстрела есть действительно что-то поэтическое. Не случайно же расстрел так часто и так безотказно становится поэтической темой. "Старый капрал". Конец Овода. Когда же расстреливают поэта, все усугубляется.
Из русских первым обратил внимание на эту связь, по-моему, Набоков, (см. его эпитафию расстрелянному Гумилеву). В другом набоковском стихотворении, где говорится об этом, поэтизация расстрела становится невыносимо прекрасной:
Расстрел
Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею, — вот-вот сейчас пальнет в меня — я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня.
Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг.
Берлин, 1917
А на сцене сцепка взглядов становилась все интенсивней, напряжение все росло и росло, набухая какой-то еще неизвестной, но ужасающей катастрофой. И когда начало казаться, что перенести это просто невозможно, наступила разрядка. Но какая?!
Насмерть перепуганные надвигающейся на них казнью, изо всех сил старающиеся уйти от наказания по суровым законам военного времени, старые мародерки притворяются ведьмами. Прикидьшаются сумасшедшими вещуньями. Разыгрьшают впавших в транс прорицательниц, чтобы спастись. Нелепо кривляясь и безбожно наигрьшая, три нищих старухи предсказывают великое будущее, ожидающее доблестных генералов. Предсказывают и, пока военные не опомнились от их натиска, сматываются.
Мне и сегодня безумно нравится столь смелое решение сцены с ведьмами, но тогда оно меня просто оглушило. Трактовка, предложенная Джоан, была неожиданна, современна и то же время глубоко замотивирована психологически.
¶Оказывалось, что старый Шекспир может говорить с нами о сегодняшнем мире, о сегодняшних людях и сегодняшних порядках впрямую.
Конечно, костюмы и аксессуары ■— это шелуха театра, легко отделимая его поверхность, но уоркшоповские костюмы, не скрою, произвели на меня впечатление. Когда леди Макбет, одетая в платье 30-х годов с обтянутыми бедрами и косым отрезным клешем внизу, в шляпке с вуалеткой, разговаривала с мужем по телефону, а потом по окончании разговора дала отбой, прокрутив ручку звонка, я не мог не вздрогнуть.
Не скажу, что я был плохо подготовлен к восприятию Шекспира в современных костюмах, отнюдь нет, — к этому времени я был достаточно осведомлен о традиции, а, может быть, о причуде англичан играть иногда своих классиков, одевая их как своих современников, я уже начитался и о "Гамлете" в клетчатых бриджах 1925-го года, и о "Гамлете" в смокингах 1929-го года, насмотрелся соответствующих фотографий. Но я не представлял, как это выглядит и воздействует на самом деле. А на самом деле это заставляет спящего человека (театрального зрителя) проснуться...
Но когда начался пир во дворце Макбета, выглядевший у Дж. Литтлвуд как высокосветский раунд в крематории, я завопил про себя: что же это такое?! это ведь не только про современных англичан, это про современных нас. Про нас в тридцать седьмом году!
...Пустое и мрачное пространство сцены — черный бархат и черный тюль — разделено банкетным столом на две половины, правую и левую. Стол узкий и очень длинный. Он тянется от авансцены до самого задника, словно повторяя направление стратегической дороги из первой картины, а если говорить более обобщенно, — словно бы символизируя бесконечный путь Макбета в ад, в неумолимую безвозвратность, на край ночи. Стол до полу закрыт черной скатертью, а по оси удаляющегося от нас стола расставлены равномерно, как верстовые столбы, высокие черные вазы с алыми гвоздиками. Сочетание черного с красным рождает траурные ассоциации: катафалк, постамент для гроба во время гражданской панихиды. Пугающее это сходство усиливает стоящая на полу огромная корзина кроваво-красных роз, сильно смахивающая на похоронный венок, прислоненный к ближнему торцу рокового стола.
Вместо скорбной музыки приглушенно звучит аргентинское танго. Есть и танцоры — четыре пары дворцовых статистов медленно вращаются в томительном танце, каждая пара на своем строго определенном месте, по углам невидимого, но геометрически точно расчерченного каре: две пары справа, две — слева. Манекенно-красивые марионетки в полный человеческий рост одеты в изысканную униформу. Дамы — в красных, до полу, вечерних платьях (спины — декольте), а кавалеры стильно милитаризованы: черные брюки с красными лампасами и красные приталенные мундиры с черной фурнитурой — аксельбантами, эполетами, петлицами и пуговицами. Прически молодых людей лоснятся брильянтином, проборы их безупречны. Локоны их партнерш почти скульп-турны, а макияж на грани изысканности и совершенства. Но лица танцоров напряжены и неподвижны. Кажется, что они неотрывно следят друг за другом и за всеми, кто появляется в зале. Танец продолжается, и впечатление фальши, ненастоящести, какой-то поддельности усиливается: порой подумается, не штатные ли это сотрудники госбезопасности — телохранители и филеры? Другой раз возникнет и совсем уже невероятная мысль, а может быть, это будущие жертвы дворцовых интриг, привезенные сюда на публичное заклание? Бывает же так: приволокут несчастного, замордованного пытками зека из тюремной камеры, прямо от параши на великосветский прием, быстренько вымоют,
¶причешут, напялят на него роскошный костюм с чужого плеча и выставят на всеобщее обозрение: смотрите, мол, дорогие и высокие гости, этот человек жив и невредим, и даже развлекается вместе с вами; а потом, не задумываясь о дальнейшем, кокнут его на обратном пути, может быть, даже не вывозя из правительственной резиденции — где-нибудь в полутемном подземном переходе.
Зловещий танец все длится и длится. Траурные фигуры танцующих медленно поворачиваются на одном месте: вот проплывает прямая напряженная спина, вот показывается замерзшая, одеревеневшая рука в черной перчатке, затем окаменевшее плечо и длинная, невозможно вытянутая шея с неподвижной головою на ней, голова разворачивается на нас беззащитным затылком, — трагический танец под дулом пистолета. Курки взведены. Смерть где-то совсем рядом. Она везде, и мерещится тебе, что на черном длинном столе сейчас возникнет красный, прикрытый крышкой фоб.
И, представьте себе, фоб возникал — вместо призрака Банко.
Я уже не помню теперь, выносили ли его какие-то люди, выдвигался ли он сам собой из непроглядной глубины затемненной сцены, — черный тюль и черный бархат, — но красный фоб Банко представал перед Макбетом во всей своей натуралистической непререкаемости: алая плиссеровка обивки, жалкие черно-легкие кружева из подкрахмаленной марли, наскоро подчерненные кисти из бумажных бечевок и четыре сфашных гвоздя по углам крышки, забитые не до конца, заготовленные предварительно, чтобы потом, после фажданской панихиды, облегчить последнюю процедуру заколачивания...
А Макбета — не помню.
Второй удар нанес мне великий Куросава.
Топот копыт. Топот копыт. Как гулкий, прединфарктный стук загнанных бешеной скоростью сердец.
Лес, стремительно несущийся по широкому экрану навстречу двум всадникам в рогатых шлемах. Беспощадный лес, хлещущий по лицам, цепляющий их за пики, хватающий за полотнища плащей, хлопающий на вефу.
И надо всем этим — дикое солнце "Расемона", скачущее наперерез, вспыхивающее в чаще перепутанных сучьев, ветвей и редеющей осенней листвы.
Вдруг — внезапная остановка. Тяжелое дыхание загнанных лошадей и людей, озирающихся вокруг. Затем уханье совы, накликающей беду, и новая гонка, неистовая скачка по лесу — то ли погоня за неведомой жертвой, то ли бегство от неизвестной, непонятной опасности. В другую сторону, в новом направлении, чуть ли не назад по своему следу. Туда и сюда. Вперед и обратно.
Рывок — неподвижность — снова рывок и снова — оцепенение.
Акира Куросава, император современного японского кино, сфоит свою версию "Макбета" по ритмическим законам старинного национального теафа: сфемительное движение — пауза сосредоточенности и — новая, еще более насыщенная динамика.
Эта испытанная веками темпо-ритмовая модель безотказно втягивает нас всех — и меня, и окружающих меня кинозрителей, и самого Куросаву в катасфофический мир шекспировской фагедии, изложенной на японский лад.
А в этом мире медленно и тягуче слоится белый, вязкий туман. Он наплывает на нас из недр кинокадра, обволакивает и затягивает лесную поляну. Исчезают в туманной воде высокие фавы и кусты опушки, утопают в ней кони, пофужаются в нее и оба одиноких всадника. Пофужаются по пояс, по фудь, по шею, и вот уже над тихим поло-
¶водьем тумана остаются только две человеческих головы в окружении реденьких верхушек болотного мелколесья.
Две пары глаз пристально вглядываются в медленное молочное течение с его ленивыми стремнинами, невесомыми перекатами и замирающими воронками, полными тишины и тайны.
Туман съедает все краски, все звуки, оставляя сердце наедине с пустотой и страхом.
Поднимается ветер, и туман в середине поляны рассеивается, обнаруживая жалкое подобие хижины и перед ней сидящую фигуру. Как клочья тумана, развиваются редкие и длинные седые волосы, плещут на ветру белые одежды древней старухи. Старуха раскручивает и раскладывает перед собой пряжу — может быть белые мотки шерсти, а, может быть, тоже клочья тумана. Старуха? Нет, кажется старик. Одни мои знакомые, посмотревшие фильм, говорят, что видели колдунью, другие с той же настойчивостью утверждают, что там был колдун.
Вместо трех ведьм японский режиссер показывал одного шамана-прорицателя, некое древнее "оно", бесполое и бесплотное, как время.
А потом был замок Макбета, приземистый и зловещий, на фоне мужского хора, звучавшего мощно и глухо, как в архаической трагедии.
А потом была и белая леди Макбет — клок колдовского тумана: белое кимоно, белое лицо, похожее на театральную маску, и белый, открытый звук высокого, бескрасочного и безжалостного голоса. Она у Куросавы называлась Асадзи и играла ее великая японская актриса Исудзу Ямала, мастерство которой существовало где-то высоко-высоко, на грани ворожбы. Это было что-то непривычное и завораживающее — медленное скручивание и раскручивание человеческого тела: видеограмма замороженного движения, похожая одновременно на экзотический танец и на судорожный экстаз. Но самое убийственное — золотые глаза Асидзи. Из этих глаз вдруг исчезали всякие краски переживаний — никаких чувств, никаких мыслей, ни радужной оболочки, ни даже зрачков. Только немое и холодное мерцание драгоценного металла. Глаза статуи, слепые от гнева.
Был также пир в замке Васидзу-Макбета, поставленный и снятый как сцена из спектакля классического японского театра Но: на деревянном лаковом полу правильными рядами разложены были небольшие круглые циновки, на каждой циновке, скрестив ноги и положив руки на колени, сидел самурай — вассалы явились засвидетельствовать свою верность новому сюзерену, новому руководителю страны, убийце предыдущего руководителя. Камера киноаппарата ревнивым взглядом Васидзу медленно двигалась по рядам самурайских лиц: пожилых, молодых, толстых, худощавых, юношеских — свежих и гладких, рыцарских — изборожденных морщинами и боевыми шрамами. Кинокамера всматривалась в проплывающие перед ней лица, но лица эти были бесстрастны и неподвижны, словно вырезанные из старого дерева маски. Камера двигалась до тех пор, пока не наткнулась на пустующую циновку. Пустая циновка сразу стала главным событием пира, центром всеобщего внимания: от нее веяло замогильным холодом на нас, киноманов, набившихся в тесный просмотровый зальчик ВГИКа, в нее вперил ястребиный свой взор Макбет-Васидзу, ее и только ее, не смея ни обернуться, ни даже скосить глаза, видели перед собой самураи. И сразу стало понятным, что скрывалось за их непроницаемыми масками: мистически необъяснимый страх, горькие раздумья о бренности мира и непрочности человеческого существования, но самым главным было ожидание, стремление угадать, кто следующий, чья циновка опустеет завтра, послезавтра, через месяц, че-
¶рез год. Туморроу энд туморроу, энд туморроу. Место человека, ставшее вдруг пустым, круглая циновка на зеркальном, как осенний лед, полу, красноречивая пустота.
Больше всего говорила эта пустота Макбету: под его взглядом чудесами кинематографической техники возникало привидение только что убитого Мики (японский эквивалент Банко). Возникало и пропадало. Возникало и пропадало...
Затем будет вторая встреча с колдуном: закончив свои предсказания, он погрузится в немоту забвения и завернется в саван тумана. Когда же туман рассеится, на поляне перед Васидзу не будет ничего: ни колдуна, ни его хижины, ни его пряжи — только дотлевающие угольки очага и тонкая струйка дыма, ничтожная тень мимолетного бытия.
Будет голова Банко в руках сходящей с ума леди Макбет, отрубленная голова воина, завернутая в белоснежный скрипящий шелк.
Будут разгневанные кони бунта, прекрасные, как возмездие.
Будет и дремучий, величественный лес, движущийся на укрепления Васидзу. Тучи черных птиц и летучих мышей, вспугнутых движением леса, закроют над Макбетом небо.
Но, самое главное, в фильме о паучьем замке с начала и до конца будет сражаться и страдать величественный и живой Макбет-Вастдзу в неподражаемом исполнении То-ширу Мифунэ, чей могучий темперамент обрушился на меня, как цунами, чье нечеловеческое обаяние захватит меня в плен раз и навсегда.
Именно он,
|
|
|


