 |
К анализу падежных функций: латинский генитив
|
|
|
|
Среди опубликованных в последние годы исследований о синтаксисе падежей одним из самых значительных является работа А. В. де Гроота, посвященная латинскому генитиву1. Благодаря ярко выраженному стремлению построить строго структурное описание, что, по мысли автора, означает строго «грамматическое» 2, благодаря обилию примеров и теоретических объяснений это исследование не только способствует пересмотру отживших категорий, загромождающих еще многие учебники, но и показывает, каким образом может быть преобразовано само синтаксическое описание.
Чтобы продемонстрировать путаницу, царящую в традиционных классификациях, А. В. де Гроот поочередно рассматривает около тридцати различных случаев употребления генитива, представленных в этих классификациях. В результате обзора он с полным основанием отбрасывает большую их часть. Его вывод заключается в том, что латинский язык имеет восемь регулярных грамматических типов употребления генитива. Именно эти восемь типов употребления структурная теория латинского генитива и принимает как действительные. Интересно посмотреть, каковы они и как они обосновываются. Эти употребления, в том виде, как дает их автор, разделяются на пять категорий: I. Имя или группа имен при имени:
А. Собственно генитив: eloquentia hominis «красноречие человека».
 1 A. W. de Groot, Classification of the Uses of a Case illustrated on the Ge
1 A. W. de Groot, Classification of the Uses of a Case illustrated on the Ge
nitive in Latin, «Lingua», VI, 1956, стр. 8—65.
2 Там же, стр. 8: «Структурное описание есть описание грамматики в терми
нах грамматики».
Б. Генитив качества: homo magnae eloquentiae «человек большого красноречия».
II. При «заместителе имени» («substantival»]
(местоимении, прилагательном и т. д.): В. Генитив совокупности лиц: reliqui peditum «остальные из пехотинцев».
|
|
|
III. В соединении со связкой («дополнение» связки):
Г. Генитив типа лица: sapientis est aperte odisse «(признаком) мудреца является открыто ненавидеть».
IV. При глаголе (не связке):
Д. Генитив намерения: Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis «отправляется в Египет (ради) познания древности).
Е. Генитив места: Romae consules creabantur «в Риме избирались консулы». IV а. При причастии активного залога:
Ж. Генитив с причастием активного залога: laboris fugiens «уклоняющийся от работы».
V. Независимый:
3. Генитив восклицания: mercimoni lepidi! «приятный то-
Приведенная классификация особенно интересна тем, что автор принципиально устраняет все экстраграмматические варианты генитива и оставляет только те типы употребления, которые удовлетворяют чисто «грамматическим» критериям. Однако и после такой систематизации ситуация оказывается весьма сложной для описания, поскольку, даже не задерживаясь на «отклоняющихся» случаях употребления, которые автор рассматривает отдельно, мы должны допустить, что латинский генитив включает не менее восьми различных, далее не сводимых случаев употребления, причем все они «регулярны», то есть «свободно продуктивны» 3.
Возникает желание, исходя из выводов А. В. де Гроота, несколько продолжить анализ и посмотреть, пригодны ли все используемые критерии, не следует ли выдвинуть еще и другие, чтобы добиться упрощения классификации названных восьми типов употребления. Сокращение их числа во всяком случае осуществимо.
То, что обозначено как «генитив места», совпадает с «местным» падежом («локативом») традиционного синтаксиса, то есть с типом Romae, Dyrrachii. Определение этого случая как генитива отвечает морфологическому критерию. Но дистрибуция этих форм весьма своеобразна, она ограничена одновременно определенным классом слов (собственные имена мест), определенным семантическим классом (названия городов и островов; с названиями стран — употребление позднее или возникающее по аналогии, как Romae Numidiaeque
|
|
|
 3 «Регулярная категория может рассматриваться как «свободно продуктивная»», цит. соч., стр. 22.
3 «Регулярная категория может рассматриваться как «свободно продуктивная»», цит. соч., стр. 22.
у Саллюстия) и определенным классом флексий (основы на -о-и на -а-). Эти ограничения столь специфичны, что ими ставится под сомнение законность морфологического критерия при классификации этого случая употребления. Характерной и, на наш взгляд, существенной чертой является то, что этот генитив, называемый «генитивом места», возникает лишь при собственных именах места, и даже в одной и четко ограниченной группе этих собственных имен, при условии особой формы флексии и особого характера денотата. Здесь мы имеем дело с особой лексической системой — системой собственных имен места, а не с простой разновидностью генитива. Именно в системе собственных имен можно будет оценить и определить природу этого типа употребления. И именно в этой системе возникает вопрос о конфликтах, подменах или присвоении функций между генитивом и аблативом, находящихся здесь в отношениях взаимодополнительности. Следовало бы даже отделить названия мест от других собственных имен (имен лиц, народов), тем более от имен нарицательных, и описать функции падежей отдельно для каждого из этих, видов имен. Нет ни малейшего основания заранее предполагать, что падежи во всех этих классах имен функционируют одинаково. Напротив, есть все основания думать, что они функционируют по-разному в названиях мест и в существительных нарицательных: 1) «генитив» типа Romae четко ограничен одним лексическим классом, поскольку у него нет аналога в классах существительных нарицательных; в классическую эпоху он не употребляется в названиях континентов, гор и т. д.; 2) отношение Thais Menandri, которое в именах лиц может указывать, что Thais—это а) дочь, б) мать, в) жена, г) подруга, д) рабыня Менандра 4, не может быть перенесено на отношение между двумя нарицательными существительными, каковы бы они ни были, и т. д. Но в таком случае в оценке «генитива места» двойной критерий лексической принадлежности и дополнительной дистрибуции генитив~аблатив, к которому добавляется ограничение в сфере употребления, должен превалировать над критерием формального совпадения Romae и rosae. «Генитив места» может найти место не в классификации употреблений генитива, а лишь (или, во всяком случае, прежде всего) в падежной системе топонимов.
|
|
|
«Генитив восклицания» типа mercimoni lepidi! занимает в классификации во многих отношениях особое место. Это единственный «независимый» генитив, не являющийся определением какого-либо другого члена высказывания, поскольку он представляет сам по себе способ высказывания. Кроме того, он сам постоянно определяется прилагательным, что является ограничением употребления. Он не применяется к лицам, что составляет новое ограничение. Наконец, и это особенно важно, он имеет «экспрессивное» значение, которое де Гроот определяет так: «Выражение эмоционального
 Де Гроот, цит. соч., стр. 32,
Де Гроот, цит. соч., стр. 32,
отношения говорящего к чему-либо, возможно, всегда к не-лицу» *. Трудно согласовать подобное употребление с функцией генитива, которой является по преимуществу выражение отношения. Сверх всех этих аномалий имеется еще одна черта, которая уменьшает самостоятельное значение «генитива восклицания»,— его крайняя редкость. Из всей латыни известны лишь шесть или семь его примеров, только два из которых у Плавта, а между тем у Плавта восклицательные обороты встречаются в изобилии; два или три у ученых-поэтов (один, сомнительный, у Катулла; один у Проперция; один у Лукана) и два у христианских авторов. По нашему мнению, Риман правильно оценивал положение, когда писал: «Восклицательный генитив, столь обычный в греческом языке для указания на причину того или иного движения души, передаваемого междометием (феб, топ av6pog), обращением к богам (<о n6aei6ov, 8eiva>v ta>Y<ov) и т. д., в латыни, в общем, не встречается. Можно сослаться на Плавта (Most., 912): «Di immortales, mercimoni lepidi!» —и несколько поэтических примеров, несомненно подражающих греческому. В них генитив всегда сопровождается прилагательным» в. Этот очень редкий, перенесенный из греческого языка оборот никогда не представлял собой регулярного и продуктивного случая употребления латинского генитива. Его следует упоминать самое большее среди окказиональных случаев употребления, как стилистический вариант аккузатива.
|
|
|
Точное определение природы «генитива намерения» 7 потребовало бы детального анализа. Здесь неправомерно вводится критерий доисторического сравнения, конструкция типа Aegyptum proficis-citur cognoscendae antiquitatis объявляется унаследованной на том основании, что имеются соотносительные факты умбрского языка. Но даже и при такой постановке вопрос оказывается спорным. Умбрский язык не является протолатинским. Более того, синтаксис единственного примера из Игувинских таблиц (VI а 8): ocrer peiha-ner «arcis piandae, (ради) воздания почестей твердыне (оплоту)» — интерпретируется по-разному: одни принимают 8, другие отвергают ' сближение с латинской конструкцией. Лучше оставить в стороне умбрский язык и рассматривать собственно латынь. Здесь нельзя абстрагироваться, во-первых, от ограничения в употреблении генитива в конструкции с герундием или в синтагме существительное + прилагательное на -ndus, во-вторых, от зависимости, в которой находится эта синтагма по отношению к глаголу, по своему значению предполагающему «намерение». Каким образом падежная форма могла бы выражать сама по себе и самостоятельно
 6 Цит. соч., стр. 56.
6 Цит. соч., стр. 56.
6 Riemann, Syntaxe latine, 7-е изд., стр. 135.
7 «Genitive of purpose», цит. соч., стр. 46.
8 J. W. Poultney, The Bronze Tables of Iguvium, 1959, § 153 i, стр. 154.
8 G. Devoto, Tabulae Iguvinae, 2-е изд., стр. 519.
I
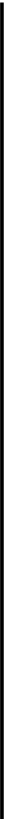 такое значение, как «намерение»? В действительности же это значение вытекает из совокупности синтаксических компонентов, окружающих этот генитив, а также из самой функции прилагательного на -ndus. Выясняется также, что еще большую роль, чем казалось на первый взгляд, играют при этом семантические факторы. Примером может служить употребление у Теренция (Ad., 270), которое надо процитировать полностью: vereorcoram in os te laudareamplius| ne id assentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes «я опасаюсь тебя хвалить больше прямо в лицо, чтобы ты не подумал, что я это делаю скорее из мести, чем из благодарности». Значение «намерения», приписываемое генитиву assentandi l0, вводится одновременно антецедентом facere и параллельным, на этот раз явно выраженным членом quo (=ut или quia) habeam. Приводят также случай из Ливия (IX, 45, 18): ut Marrucini mitterent Romam oratores pacis petendae. Здесь надо принять во внимание как глагол mittere, который ориентирует синтагму pacis petendae на функцию «назначения», так и, может быть еще больше, oratores, ибо в древнем языке термин orator по семантическим причинам требовал именного определения в генитиве: foederum, pacis, belli, indutia-rum oratores fetiales u. На «оратора» возлагалась миссия потребовать чего-либо или предложить что-либо от имени тех, кто его посылает; это слово обязательно требует при себе генитива: orator alicuius rei. Вот почему можно сказать просто orator pacis в значении «парламентер, которому поручено просить мира»; например, у Ливия (IX, 43): ad senatum pacis oratores missi. Тогда приведенный выше пример: ut mitterent Romam oratores pacis petendae— может и не содержать обсуждаемой конструкции, если в одной определительной синтагме можно было объединить oratores pacis petendae, что было бы расширением синтагмы oratores pacis.
такое значение, как «намерение»? В действительности же это значение вытекает из совокупности синтаксических компонентов, окружающих этот генитив, а также из самой функции прилагательного на -ndus. Выясняется также, что еще большую роль, чем казалось на первый взгляд, играют при этом семантические факторы. Примером может служить употребление у Теренция (Ad., 270), которое надо процитировать полностью: vereorcoram in os te laudareamplius| ne id assentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes «я опасаюсь тебя хвалить больше прямо в лицо, чтобы ты не подумал, что я это делаю скорее из мести, чем из благодарности». Значение «намерения», приписываемое генитиву assentandi l0, вводится одновременно антецедентом facere и параллельным, на этот раз явно выраженным членом quo (=ut или quia) habeam. Приводят также случай из Ливия (IX, 45, 18): ut Marrucini mitterent Romam oratores pacis petendae. Здесь надо принять во внимание как глагол mittere, который ориентирует синтагму pacis petendae на функцию «назначения», так и, может быть еще больше, oratores, ибо в древнем языке термин orator по семантическим причинам требовал именного определения в генитиве: foederum, pacis, belli, indutia-rum oratores fetiales u. На «оратора» возлагалась миссия потребовать чего-либо или предложить что-либо от имени тех, кто его посылает; это слово обязательно требует при себе генитива: orator alicuius rei. Вот почему можно сказать просто orator pacis в значении «парламентер, которому поручено просить мира»; например, у Ливия (IX, 43): ad senatum pacis oratores missi. Тогда приведенный выше пример: ut mitterent Romam oratores pacis petendae— может и не содержать обсуждаемой конструкции, если в одной определительной синтагме можно было объединить oratores pacis petendae, что было бы расширением синтагмы oratores pacis.
|
|
|
Идя далее по линии обобщения, мы должны одновременно рассматривать конструкцию генитив -f- герундий или прилагательное на -ndus и конструкцию, зависящую от глагола esse в таком обороте, как cetera minuendi luctus sunt «другие (законодательные распоряжения) предназначены для ограничения траура» (Цицерон), где предикативная синтагма с генитивом и esse относится к выражениям «принадлежности» (ср. ниже). Существует много примеров, когда генитив в простых или сложных выражениях зависит то от непосредственных синтаксических антецедентов, то от предикативных оборотов и когда вся конструкция близка к рассматриваемой
здесь п. К ним, даже если оставить в стороне подражание греческому обороту той + инфинитив, следует отнести «генитив намерения». В силу весьма жестких ограничительных условий употребления его нельзя считать автономным типом употребления; если абстрагироваться здесь от герундия или причастия на -ndus, мы получим просто генитив зависимости.
О «генитиве типа лица», который выделяется де Гроотом (стр. 43 и ел.) в функции указания на типичное качество класса лиц, заметим, что он свойствен лишь одному классу выражений: pauperis est numerare pecus; — est miserorum ut invideant bonis; — constat virorum esse fortium toleranter dolorem pati; — GalliCae consue-tudinis est... и т. д.
Семантическая особенность («типичное качество класса лиц») не есть первичное данное; она представляется нам результатом предикативной конструкции генитива, которая и является главной характерной особенностью. Это заставляет пойти по пути другого толкования. Генитив-предикат при глаголе esse обозначает «принадлежность»: haec aedes regis est «этот дом — царя» 13. Если существительное в роли подлежащего заменяется инфинитивом, то получается конструкция hominis est (errare) «человеку свойственно..., принадлежностью человека является (заблуждаться)». Следовательно, мы обнаруживаем в этом употреблении подкласс «предикации принадлежности», где синтаксическая вариация (инфинитив в роли подлежащего) ничего не меняет в отличительной характерной черте — употреблении генитива,— которая остается той же самой. Сам же этот предикативный генитив в конструкции с esse есть не что иное, как синтаксический дериват так называемого «посессивного» генитива: именно нормальное употребление генитива — aedes regis — и делает возможной конструкцию haec aedes regis est; отношение, установленное между aedes и regis, остается тем же самым, когда от определительной синтагмы aedes regis «дом царя» совершается переход к утвердительному высказыванию: haec aedes regis est «этот дом —- царя; это — дом царя» — и отсюда к варианту этого высказывания: pauperis est numerare pecus «(дело) бедных — пересчитывать скотину».
Мы не видим также достаточных оснований для выделения в особую категорию «генитива совокупности лиц» («genitive of the set of persons»), на который, впрочем, указывалось лишь с оговоркой 14, поскольку он не имеет ни одной грамматической особен-

 10 В комментарии к этому примеру де Гроот, цит. соч., стр. 46—47, толкует id
10 В комментарии к этому примеру де Гроот, цит. соч., стр. 46—47, толкует id
как дополнение к assentandi: «He очень ясен случай с субстантивным местоимением
среднего рода при генитиве герундия — id assentandi... [стр. 47]. Таким образом,
id assentandi можно в некотором роде рассматривать как эквивалент eius rei assen
tandi; однако примеров последней конструкции нет, как нет и примеров глагола
assentari с прямым дополнением, выраженным существительным — assentarl ali-
quam rem». В действительности id не является и не могло бы являться дополнением
к assentandi; фраза была бы непонятной; очевидно, id надо относить к facere.
11 Cic, Leg., II, 9.
12 См., в частности, A. Ernout, «Philologica», стр. 217 и ел., где дается хоро
ший подбор примеров. Ср. также Ernout — Thomas, Syntaxe latine, стр. 225—
226.-
13 Принадлежность, падежом которой является генитив, следует тщательно
отличать от обладания, которое выражается дативом предиката; ср. «Archiv Orien-
talni», XVII, 1949, стр. 44-45.
14 Де Гроот, цит. соч., стр. 42: «...если я прав, считая это отдельной грамма
тической категорией...»
6 Бенвенист
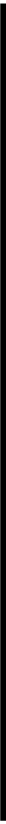 ности, которая отделяла бы его от обычного генитива. Между arbor horti «дерево сада», с одной стороны, и primus equitum «первый из всадников», plerique hominum «большая часть, многие из людей» — с другой, разница только лексическая, поскольку выбор unus «один» (duo «два» и т. д.) или plerique «большая часть» (multi «многие» и т. д.) предсказывает, что определяющее будет обозйачать «set of persons» («совокупность лиц») (ограничительное условие — «лиц», а не «вещей», является фактом узуса, а не грамматики). Можно было бы лишь внутри «нормальных» случаев употребления генитива соединить эти синтагмы в одну подгруппу на том основании, что определяемым членом в них является местоимение, числительное или прилагательное (прилагательное по синтаксической позиции), чтобы тем самым отличить их от синтагм из двух существительных,
ности, которая отделяла бы его от обычного генитива. Между arbor horti «дерево сада», с одной стороны, и primus equitum «первый из всадников», plerique hominum «большая часть, многие из людей» — с другой, разница только лексическая, поскольку выбор unus «один» (duo «два» и т. д.) или plerique «большая часть» (multi «многие» и т. д.) предсказывает, что определяющее будет обозйачать «set of persons» («совокупность лиц») (ограничительное условие — «лиц», а не «вещей», является фактом узуса, а не грамматики). Можно было бы лишь внутри «нормальных» случаев употребления генитива соединить эти синтагмы в одну подгруппу на том основании, что определяемым членом в них является местоимение, числительное или прилагательное (прилагательное по синтаксической позиции), чтобы тем самым отличить их от синтагм из двух существительных,
Совсем другая проблема встает в связи с генитивом, определяющим причастие активного залога: laboris fugiens «бегущий труда (уклоняющийся от работы)», cupiens nuptiarum «жаждущий бракосочетания», neglegens religionis «пренебрегающий религией» и т. д. Де Гроот с полным основанием отделяет этот генитив с причастием активного залога от генитива с прилагательным 15. Связь с глаголом — это следует подчеркнуть — является отличительной чертой такого употребления. В приглагольности мы усматриваем здесь коренную функцию. Этот тип синтагм должен быть отделен от всех других и рассматриваться в ином плане. В самом деле, он является отдельным типом в силу того, что дает именную «версию» глагольной конструкции с переходным глаголом: fugiens laboris «бегущий труда» происходит от fugere laborem «бежать труда (уклоняться от труда)», neglegens religionis <neglegere religionem, cupiens nuptiarum <cupere nuptias. Но следует пойти дальше. Надо сопоставить с neglegens religionis «пренебрегающий религией» синтагму neglegentia religionis «пренебрежение религией»; по отношению к глаголу абстрактное имя neglegentia находится в том же положении, что и neglegens, и определяется тем же генитивом. Таким образом, мы можем сказать, что в этом употреблении, отличном от всех других, функция генитива заключается в транспонировании отношения аккузатива — дополнения переходного глагола в отношение зависимости от имени. Это, следовательно, генитив транспозиции, который общностью особого рода соединен с совершенно отличным, но здесь равнозначащим падежом, аккузативом, в силу соответствующих функций каждого. Строго говоря, результатом транспозиции является не один только генитив, а вся синтагма «причастие (или имя действия) + генитив»; термин «генитив транспозиции» следует понимать с этой оговоркой. Такой
 16 Цит. соч., стр. 52.
16 Цит. соч., стр. 52.
тип употребления генитива отличен от всех других типов употребления именно в силу того, что он происходит от другого, транспонированного падежа, поскольку глагольное управление стало именным определением. Так как два названные класса имен (причастие активного залога и имя действия) находятся в зависимости от глагола, а не наоборот, то синтагмы, образуемые ими в сочетании с генитивом, должны рассматриваться как производные от управления личного глагола в результате транспозиции: tolerans frigoris «выносящий холод» и tolerantia frigoris «выносливость к холоду» возможны лишь на основе tolerare frigus «выносить холод». Следовательно, мы должны выделить здесь генитив в специфической функции, вытекающей из конверсии личной глагольной формы в именную форму причастия или абстрактного существительного.
Однако, если в это употребление включают отглагольные существительные, нет никакого основания ограничиваться существительными, производными от переходных глаголов. Отглагольные существительные от непереходных глаголов также должны занять свое место рядом с ними, и их определяющий член в генитиве должен равным образом рассматриваться по отношению к соответственной падежной форме глагольной синтагмы. Однако на этот раз падежная форма, транспонируемая в генитив, является уже не аккузативом, а номинативом: adventus consulis «прибытие консула» происходит из consul advenit «консул прибывает», ortus solis «восход солнца» — из sol oritur «солнце восходит». Определяющий генитив транспонирует здесь не аккузатив — дополнение, а номинатив — подлежащее.
Отсюда вытекает два следствия. Во-первых, в рассмотренном употреблении генитива в результате транспозиции совпадают два противоположных падежа: аккузатив — дополнение переходного глагола и номинатив — подлежащее непереходного глагола. Оппозиция номинатив ~ аккузатив, основополагающая в глагольной синтагме, формально и синтаксически нейтрализуется в приименном определяющем генитиве. Но она отражается в логико-семантическом отличии «субъектного генитива» от «объектного генитива»: patientia animi «терпение души» <animus patitur «душа терпит, сносит»; patientia doloris «терпение (к) боли» <pati dolorem «терпеть боль».
Во-вторых, мы приходим к мысли, что этот генитив, происходящий из транспонированных номинатива или аккузатива, дает «модель» генитивного отношения вообще. Определяемый член именной синтагмы в вышеприведенных примерах происходит от транспонированной глагольной формы; но, когда схема межименного определительного отношения установилась, положение определяемого члена синтагмы может быть занято любым существительным, а не только существительными, производными от глагольной конвертированной формы. На основе конверсионных синтагм, таких,
6* 163
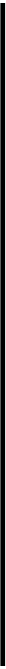 |
| т |
как ludus pueri «игра мальчика» <puer ludit «мальчик играет»; risus pueri «смех мальчика» <puer ridet «мальчик смеется», это отношение может быть далее распространено на somnus pueri «сон мальчика», затем на mos pueri «нрав мальчика» и, наконец, на liber pueri «книга мальчика». Мы считаем, что все употребления генитива порождены этим основным отношением, по своей природе синтаксическим, которое в функциональной иерархии подчиняет генитив номинативу и аккузативу.
Мы видим в конечном счете, что в намеченной здесь концепции функция генитива,определяется как результат транспозиции глагольной синтагмы в именную синтагму; генитив — это падеж, который без дополнительных средств (a lui seul) транспонирует в отношение между двумя именами функцию, которая в высказывании с личным глаголом выполняется или номинативом, или аккузативом. Все другие типы употребления генитива являются, как это мы пытались показать выше, производными от этого последнего, подклассами с частным семантическим значением или вариациями стилистического характера. Особое «значение», связывающееся с каждым из этих типов употребления, также является производным от грамматического значения «зависимости» или «определения» («детерминации»), неотъемлемо присущего основной синтаксической функции генитива.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ГЛАВА XIV ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Со времени появления широко известной статьи А. Мейе, в которой было определено место именного предложения в системах индоевропейских языков и тем самым ему был впервые придан лингвистический статус, несколько исследователей, занимавшихся главным образом древними индоевропейскими языками, внесли свой вклад в историческое описание этого типа высказывания. Именное предложение, если его охарактеризовать кратко, включает именной предикат, при отсутствии глагола или связки, и рассматривается в индоевропейских языках как нормальное выражение для тех случаев, где возможной глагольной формой было бы 3-е лицо наст, времени изъявит, наклонения глагола «быть». Это определение получило широкое распространение даже за пределами индоевропеистики, но оно не сопровождалось изучением условий, сделавших возможной такую языковую ситуацию. Более того, теория этого в высшей степени своеобразного синтаксического явления значительно отставала от открытия все новых его проявлений в разных языках.
Этот тип предложения не ограничен какой-либо одной семьей или какими-либо определенными семьями языков. Языки, в которых он был засвидетельствован, лишь первые из списка, который сейчас можно было бы значительно удлинить. Именное предложение встречается не только в таких языках, как индоевропейские, семитские, финно-угорские, банту, но и во многих других, самых различных языках, например в шумерском, египетском, кавказских, алтайских, дравидских, индонезийском, в языках Сибири, американоиндейских и т. д. Оно настолько всеобще, что, если бы мы хотели определить статистически или географически границы его распространения, нам гораздо легче было бы перечислить флективные языки, в которых оно отсутствует (таковы современные
167,
L
 западноевропейские языки), чем те, в которых оно встречается. Именное предложение трудно было бы описать во всех языках идентично. Оно включает разновидности, которые необходимо различать. Но общим является то, что самые разнообразные языковые структуры допускают или требуют, чтобы при определенных условиях глагольный предикат не был выражен или чтобы достаточно было именного предиката. Какой же необходимостью вызван к жизни этот тип предложения, если он встречается в стольких различных языках, и как получилось — вопрос покажется странным, но странность заключена в самих фактах,— что из всех глаголов именно глагол бытия имеет исключительное право присутствовать в высказывании, где он формально не фигурирует? Стоит только немного углубиться в эту проблему, как возникает необходимость рассмотреть во всей совокупности отношения глагола и имени, а также своеобразную природу глагола «быть».
западноевропейские языки), чем те, в которых оно встречается. Именное предложение трудно было бы описать во всех языках идентично. Оно включает разновидности, которые необходимо различать. Но общим является то, что самые разнообразные языковые структуры допускают или требуют, чтобы при определенных условиях глагольный предикат не был выражен или чтобы достаточно было именного предиката. Какой же необходимостью вызван к жизни этот тип предложения, если он встречается в стольких различных языках, и как получилось — вопрос покажется странным, но странность заключена в самих фактах,— что из всех глаголов именно глагол бытия имеет исключительное право присутствовать в высказывании, где он формально не фигурирует? Стоит только немного углубиться в эту проблему, как возникает необходимость рассмотреть во всей совокупности отношения глагола и имени, а также своеобразную природу глагола «быть».
Что касается различия между глаголом и именем, часто подвергаемого сомнению \ то предлагаемые формулировки сводятся обычно к одной из следующих двух: глагол указывает процесс, имя — объект; или же: глагол связан с временем, имя — времени не подразумевает. Мы не первые утверждаем, что оба эти определения неприемлемы для лингвиста. Необходимо кратко показать почему.
Противопоставление «процесса» и «объекта» не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том,, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу. Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие, вынужден будет скоро признать, что если «лошадь» — объект, а «бежать»— процесс, то это потому, что первое—-имя, а второе — глагол. Определение, которое стремится к «естественному» обоснованию того способа, при помощи которого тот или иной конкретный язык организует свои понятия, обречено вращаться в порочном кругу. Впрочем, достаточно приложить такое определение к языкам другого типа, чтобы увидеть, что отношение между объектом и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же. Так, в языке
 1 Из последних работ см. некоторые статьи в «Journal de psychologies, 1950 (выпуск, озаглавленный «Грамматика и психология» — «Grammaire et psychologies).
1 Из последних работ см. некоторые статьи в «Journal de psychologies, 1950 (выпуск, озаглавленный «Грамматика и психология» — «Grammaire et psychologies).
L
хупа (Орегон) активные или пассивные глагольные формы 3-го лица употребляются как имена: папуа «он спускается» — название «дождя»; nillifi «он течет» — означает «ручеек»; naxowilloi6 «прикреплено вокруг него» — значит «пояс» и т. п. 2. В языке зуни имя yatoka «солнце» представляет собой глагольную форму от yato-«проходить, пересекать» 3. И обратно, глагольные формы могут закрепляться за понятиями, которые не соответствуют тому, что мы назвали бы процессом. В языке сиуслав (Орегон) частицы типа waha «снова», уааха «много» спрягаются как глаголы 4. Во многих американоиндейских языках спрягаются прилагательные, вопросительные местоимения и особенно числительные. Как же тогда лингвистически определить объекты и процессы?
Эти замечания пришлось бы повторить и по поводу второго определения, в котором отличительной чертой глагола признается выражение времени. Никто не будет отрицать, что в ряде языковых семей глагольная форма обозначает, в числе прочих категорий, и категорию времени. Из этого, однако, не следует, что время должно выражаться глаголом обязательно. Известны языки, как, например, хопи, где глагол не подразумевает абсолютно никакой временной отнесенности, имея только видовые различия 6; в других языках, например в языке тюбатулабал (той же уто-ацтекской группы, что и хопи), наиболее отчетливо прошедшее время выражается не в глаголе, а в имени: hanH «дом», hani-prl «дом в прошлом» (=то, что было домом и больше им не является) 6. Нефлективные языки отнюдь не единственные, в которых время выражается не глаголом. Даже там, где глагол существует, он может не иметь временной функции и время может выражаться иначе, не при помощи глагола.
Из этого следует также, что различение имени и глагола нельзя основывать на эмпирическом анализе фактов морфологии. То, как имя и глагол различаются в том или ином языке (специальными морфемами или сочетаемостью и т. д.), или тот факт, что в каком-то третьем языке имя и глагол формально не различаются,— зсе это не дает никакого критерия для определения их различия и не позволяет даже сказать, действительно ли такое различие необходимо существует. Если бы удалось описать одну за другой все морфологические системы, то пришлось бы констатировать только, что в одних языках глагол и имя различаются, а в других — нет и что существует некоторое количество промежуточных случаев. Факты не раскрыли бы нам ни основания для такого различия там, где оно имеется, ни его сущности.
 2 Ср. Goddard, Handbook of the American Indian Languages [далее HAIL],
2 Ср. Goddard, Handbook of the American Indian Languages [далее HAIL],
I, стр. 109, § 23.
3 Bunzel, HAIL, III, стр. 496.
4 Frachtenberg, HAIL, II, стр. 604.
6 Ср. Whorf, Linguistic Structures of Native Americans, стр. 165.
Voegelin, Tubatulgbal Grammar, стр. 164.
 Поэтому для характеристики противопоставления глагола и имени как таковых, независимо от типа языка, мы не вправе использовать ни такие понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический характер. Он связан с функцией глагола в высказывании.
Поэтому для характеристики противопоставления глагола и имени как таковых, независимо от типа языка, мы не вправе использовать ни такие понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический характер. Он связан с функцией глагола в высказывании.
Мы определим глагол как необходимый элемент построения законченного утвердительного высказывания. Чтобы избежать опасности порочного круга в определении, укажем сразу же, что законченное утвердительное высказывание обладает по крайней мере двумя независимыми формальными характеристиками: 1) оно произносится между двумя паузами; 2) оно имеет типовую интонацию «законченности», которая в каждом языке противопоставляется другим интонациям, в равной степени типовым (незаконченности, вопроса, восклицания и т. п.).
Глагольная функция (в том виде, как мы ее определили) оказывается в известной степени независимой от глагольной формы, хотя часто они совпадают. Задача как раз и состоит в том, чтобы установить точное соотношение между этой функцией и этой формой. Внутри утвердительного высказывания глагол выполняет двоякую функцию: функцию связи (fonction cohesive), которая заключается в организации элементов высказывания в единую законченную структуру; и функцию утверждения существования (fonction assertive), придающую высказыванию предикат реальности. Первая функция не нуждается в других определениях. Не менее важна, хотя и в другом плане, функция утверждения. Законченное утверждение в силу того только факта, что это утверждение, подразумевает отношение высказывания к другому ряду явлений — к действительности. К грамматической связи, объединяющей члены высказывания, имплицитно добавляется «это есть!-», которое устанавливает связь между языковым рядом и системой действительности. Содержание высказывания дается как соответствующее порядку вещей. Таким образом, синтаксическая структура законченного утвердительного предложения позволяет различить два плана: план грамматической связанности, где глагол выполняет функцию связующего элемента, и план утверждения реальности, откуда глагол получает свою функцию утверждающего элемента. В законченном утвердительном высказывании глагол обладает этими двумя качествами.
Следует подчеркнуть, что данное определение исходит из существенной синтаксической функции глагола, а не из его материальной формы. Функция глагола всегда налицо, какими бы ни были морфологические особенности глагольной формы. Если, например, в венгерском языке форма объектного спряжения varo-m «я его жду» параллельна именной посессивной форме karo-m «моя рука», a kere-d «ты его просишь» форме vere-d «твоя кровь», то эта особенность примечательна сама по себе; но сходство объектной
глагольной формы и посессивной именной формы не должно затемнять того факта, что только формы varom и kered могут образовать законченные утвердительные предложения, а ни karom, ни vered не могут, и этого достаточно, чтобы отличить глагольные формы от тех, которые таковыми не являются. Более того, для осуществления глагольной функции вовсе не обязательно, чтобы в языке глагол выделялся морфологически, потому что любой язык, какова бы ни была его структура, способен производить законченные утвердительные предложения. Из этого следует, что морфологическое различие между глаголом и именем является вторичным по отношению к различию синтаксическому. В иерархии функций важно прежде всего то, что только некоторые формы способны создавать законченные утвердительные предложения. Может случиться и действительно часто случается, что подобные формы характеризуются сверх того еще и морфологическими показателями. Тогда различие глагола и имени переходит и в формальный план и появляется возможность определить глагольную форму строго морфологически. Такова ситуация в языках, где глагол и имя имеют разные структуры и где глагольная функция, как мы ее понимаем, находит поддержку в форме глагола. Но для своей реализации в высказывании эта функция не нуждается в специфически глагольной форме.
Теперь можно более точно описать функциональную структуру глагольной формы в утвердительном высказывании. Она включает два элемента — один материально выраженный и переменный, другой — имплицитный и постоянный. Переменной, величиной является глагольная форма как материальный факт: переменной в отношении семантического выражения, переменной в отношении количества и природы выражаемых ею категорий — времени, лица, вида и т. п. В этой переменной величине заключен инвариант, неотъемлемая принадлежность утвердительного высказывания: утверждение соответствия между данным грамматическим целым и утверждаемым фактом. Именно это соединение переменного (варианта) и постоянного (инварианта) позволяет глагольной форме иметь функцию формы, утверждающей существование, в законченном высказывании.
Каково же соотношение между этим синтаксическим свойством и морфологически охарактеризованной глагольной формой? Здесь нужно различать величину (протяженность) форм и их природу. Минимальное утвердительное высказывание может совпадать по величине с минимальным синтаксическим элементом, но сущность этого минимального синтаксического элемента заранее не определена. В латинском языке утвердительное высказывание dixi «я сказал» можно рассматривать как минимальное. С другой стороны, dixi — это минимальный синтаксический элемент, в том смысле, что в синтагме, куда входит dixi, мы не можем установить синтаксическую единицу более низкого ранга. Из этого следует, что
 |
 минимальное высказывание dixi совпадает с минимальным синтаксическим элементом dixi. При этом в латинском языке утвердительное предложение dixi, равное по величине синтаксической единице dixi, оказывается совпадающим в то же время с глагольной формой dixi. Но для образования одночленного утвердитель.-ного высказывания вовсе не обязател
минимальное высказывание dixi совпадает с минимальным синтаксическим элементом dixi. При этом в латинском языке утвердительное предложение dixi, равное по величине синтаксической единице dixi, оказывается совпадающим в то же время с глагольной формой dixi. Но для образования одночленного утвердитель.-ного высказывания вовсе не обязател
|
|
|


