 |
Психоаналитическая индивидуальная психодрама и цель игры
|
|
|
|
С точки зрения визуальной и моторной поддержки такая форма психотерапии как индивидуальная психоаналитическая психодрама вводит другой вариант рамки и техники. Парадокс аналитической психодрамы состоит в систематическом предписании в форме игры того, что в других местах рассматривается как препятствие для развития аналитического процесса, в частности, — латеризация переноса и действие, моторное и вербальное. Действительно, повторение в игровой форме позволяет избежать сопротивления, свойственного этим защитам, которые в классическом анализе были бы отыгрыванием, и сделать из них привилегированное средство проработки для пациентов, неспособных выдержать трансферентное отношение, организованное вокруг одного аналитика. Если перенос и его цель являются движущей силой классического лечения, то в психодрмме отличия касаются, на самом деле, рамки.
Аналитическая психодрама, разработанная в 1950-х годах Сержем Лебовиси, Рене Дяткиным, Эвелин и Жаном Кестембергами и позднее Жаном Жилибером и Филиппом Жаммэ, обеспечивает в действительности экономические и топические условия, позволяющие интерпретации быть услышанной без ощущения вторжения и, тем самым, быть интроецированной. Речь идет о психодраме, центрированной вокруг одного пациента, с группой терапевтов, состоящей из ведущего, который берет на себя интерпретативную роль, и из со-терапевтов, которых должно быть не менее четырех человек — с одинаковым количеством представителей обоих полов, — являющихся потенциальными игроками. Сеанс должен проходить раз в неделю и продолжаться около получаса.
Специфическая рамка индивидуальной аналитической психодрамы адресована взрослым пациентам или детям, которые предъявляют основные феномены возбуждения или торможения, характерные для психотического функционирования или для фазы важной перестройки, свойственной предподростковому и подростковому возрасту. Различие между ведущим игру и другими членами команды позволяет фрагментировать массивное трансферентное инвестирование и облегчить экономическую тяжесть этого возбуждения: чередующаяся интерпретация в игре и вне игры приводит в большинстве случаев к концентрации движения, смещенного и амбивалентного, на личность ведущего, и в этом пункте прорабатываемого так же, как и в аналитическом лечении с одним аналитиком.
|
|
|
.Лечение Паскаля психоаналитической психодрамой позволит мне показать важность рамки, которая обеспечивает не только визуальную и моторную опору,
но и отыгрывание через игру, Паскалю — десять лет, когда его приводят к вам на психодраму. Мы его знаем с пяти лет, когда его родители пришли на консультацию по поводу двух конвульсивных приступов, явившихся результатом двух возвращений в детский сад после летних каникул. Он отказывается говорить. Во время консультации он довольствуется тем, что разыгрывает сцены яростной борьбы животных друг с другом, после чего застывает в неподвижной и безразличной позе. Индивидуальная психотерапия, которая была ему предложена с частотой два сеанса в неделю и продолжающаяся два с половиной года, не дает повода говорить об истинных переменах: он повторяет те же сцены грубых выпадов и остается нечувствительным к словам его психотерапевта, в частности, по поводу различных интерпретаций его ярости в первосцене. Терапия прекращается, когда Паскаль не хочет больше приходить, а у терапевта появляется чувство вялости и неподвижности. Два года спустя, родители вновь просят о консультации. На этот раз команда, организованная Р. Дяткиным и мной, пробует провести психодраму. Паскаль демонстрирует и с нами массивное торможение; он никогда не предлагает во что-нибудь сыграть, не распределяет роли. Каждый раз он отвечает одно и то же; «Я не знаю», «Мне все равно». Очевидно, он находится во власти фантазма травматического соблазнения, который ему не оставляет другого выхода, кроме как принять мегаломаническую позицию отказа от игры. Невозможна никакая проработка кроме игры в двойника, который говорит голосом от первого лица, что позволило бы ему обрести фантазматическую проективную репрезентацию — под взглядом третьего лица, ведущего игры, который выполняет функции противовозбуждения и связывания через интерпретативную деятельность. Чтобы проиллюстрировать это, я расскажу о двух сеансах, состоявшихся с интервалом в несколько месяцев, после двух лет психодрамы.
|
|
|
Как обычно, Р. Дяткин, который является ведущим игры, спрашивает Паскаля: «Во что играем?» Он отвечает как всегда однообразно: «Я не знаю». В соответствии с применяемой с самого начала психодрамы модальностью работы я вмешиваюсь, чтобы сыграть его двойника, и говорю ему: «Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я был в красивом доме, более красивом, чем мой собственный, а где же был мой дом? Ты ведь знаешь, как это бывает в сновидении, не всегда все понятно. Затем я открываю дверь и вижу мертвого человека, которого зарезали. Меня могли бы обвинить в этом». Тогда Паскаль меня спрашивает: «И что же ты сделал?». Я ему отвечаю; «Я проснулся, это был кошмар». Выходя из состояния мутизма, он начинает меня все больше и больше спрашивать про мое сновидение: «А каким он был физически?» И я ему говорю: «Я точно не знаю, но это был кто-то с седыми волосами». Тогда ведущий приглашает одну коллегу сыграть роль третьего человека, подруги или матери: «Прекрати его пугать, — говорит она мне, — твоя история ужасна, я не выношу подобных сновидений, потому что после я не знаю, правда это или нет». Тогда я ей отвечаю: «Я тоже их не выношу; из-за этого я и проснулся». Р. Дяткин прерывает сцену и спрашивает Паскаля: «Итак, тебе это понравилось?» «Не очень», — отвечает тот. Р. Дяткин добавляет: «Я это видел. Ты отдалился во время этой игры от двух других игроков. У тебя тоже бывают ночные кошмары?» «Да, — отвечает Паскаль, — но хуже, чем этот». Поскольку ему не удается вспомнить свои сновидения, Р. Дяткин делает переход, говоря ему: «Н жизни бывают страшные вещи: это смерть и ситуация, когда два человека причиняют друг другу зло, приводящее к смерти», Тогда у Паскаля возникает ассоциация, и он говорит: «Иногда мне снится, что я мертв, и что это происходит не во сне».
|
|
|
Очевидно, у Паскаля есть страх перестать существовать, потерять себя и потерять объекты, которые он инвестирует: торможение лишь воплощает эту невозможность инвестировать объект, который является источником такого возбуждения, которое не позволяет никакого смещения, никакого движения и которое является скорее разрушителем психического функционирования, чем его носителем. Вот почему пациенту, у которого нет двойника в сновидении и нет представления о себе самом, являющегося результатом нарциссической регрессии сновидения, важно предоставить изображение этого нарциссического двойника. Он-то и позволит ему установить связь с объектом, дистанция с которым могла бы быть выносимой. С этой точки зрения, психодрама является попыткой совместного сновидения, гарантом которого является ведущий игры.
Другой сеанс, состоявшийся несколько месяцев спустя, свидетельствует о возможностях психодрамы в установлении особого пространства, являющегося посредником для закладки опыта фантазматизации.
Р. Дяткин встречает Паскаля, замечая ему: «Я всегда задаю тебе одни и те же вопросы, и ты всегда нам отвечаешь одно и то же. Я предлагаю тебе сыграть в двух персонажей, один из которых удивляет другого». Паскаль соглашается, и тогда я подхожу к ному, чтобы сыграть этого персонажа, не имея при этом ни малейшего представления, что я буду играть. Тогда я придумываю следующую сцену: «Вон там внизу — яма», — и указываю на пространство, отделяющее нас от других психодраматистов. «Я уже перепрыгнул через нее. Ты ведь мне не поверишь, не так ли?» «Нет», — отвечает он. Тогда я ему говорю: «Хочешь, я тебе покажу, как я это сделал?» «Да», — говорит он. Я разыгрываю прыжок, отдаляясь от него и приближаясь к другим психодраматистам, потом спрашиваю у него: «Ну, ты тоже попробуешь?» Паскаль, оставаясь неподвижным с самого начала психодрамы и стоя возле стены, стремительно сдвигается с места, делает прыжок и присоединяется ко мне, явно довольный своим подвигом. Я замечаю: «Видишь, то, что казалось невозможным, стало возможным». И к удивлению всех он начинает ассоциировать и говорит: «Тогда была бы радуга без дождя или дождь без облаков. Мы — на другой планете».
|
|
|
С этой сцены и началось путешествие «по ту сторону зеркала» и с тех пор не прекращалось, что позволило Паскалю вступить в игру воображения, свидетельствуя о его новых возможностях выносить первосцену, которая не будет немедленно становиться источником деструкции и неминуемой смерти. Именно таким образом можно попять обращение к радуге, появляющейся после грозы и являющейся аллегорией соединения двух противоположных элементов — земли и солнца. Паскаль стремится, конечно, их разъединить, но отныне он может себе позволить представлять их на этой «другой планете», которой является сцена психодрамы. Опора на изобразительный двойник, который смог пережить испытание времени и ярости, стала, вероятно, рычагом этого лечения, позволившим ему безбоязненно столкнуться с «прыжком» над смертью и кастрацией, не испугавшись уничтожения.
Заключение
В этой перспективе аналитическая работа производится, как нельзя лучше, через предложение игры, позволяющей выйти из повторения самим фактом диалектики между полем иллюзии и разочарования. Только при этом условии может
сформироваться сознание, которое в данном случае сопоставимо с открытием» Коррелятом которого является объект (найденный/созданный) и которое способно преодолеть ярость, вписанную в саму сердцевину влечения.
На самом деле, предполагается, чтобы аналитик был тем, кто благодаря рамке и своей интерпретативной функции способствовал бы развитию такой «творческой иллюзии», коррелятом которой является способность переживать топическую и формальную регрессию мысли, а значит, и временную регрессию. В зависимости от пациентов, эта формальная регрессия переносится ими по-разному, и именно это служит для нас показанием к психоанализу, психоаналитической психотерапии или индивидуальной психоаналитической психодраме. Аналитический процесс находит свою основу в самой концепции психического функционирования: во всех случаях речь идет о трансформации тенденции к немедленной разрядке в действии в способность и удовольствие фантазировать и мыслить без риска слома и распада. Аналитическая рамка, какой бы ни была степень материализации ее формы, всегда направлена на создание условий для установления коммуникации с другим, свидетельствуя об организации психического пространства и времени и о циркуляции между психическими системами.
|
|
|
С этой точки зрения, аналитическая рамка, какими бы ни были ее модальности — в большей или меньшей степени основанные на визуальном восприятии и моторике, — направлена на создание оптимальных условий для того, чтобы такое «исцеление» было возможным. Да и как бы это исцеление могло быть другим при возможности рассказывать о своей жизни и составлять историю, соотносимую с открытием инаковости. Речь всегда идет об аналитике и пациенте, которые под защитой рамки избегают сговора и нарциссической борьбы — источника деструктивности — посредством, скорее, непрямого взгляда на историю, чем взгляда лицом к лицу. Этот путь может быть долгим или не очень, далеким или близким, но он всегда идет в направлении исследования бессознательного и детской сексуальности, которые составляют два фундаментальных аспекта открытия Фройда. Учет условий психического функционирования позволяет сделать это путешествие-посвящение во внутренний мир более или менее легким.
Если выразиться словами поэта Ива Бонфуа, речь идет о поисках «неведомой темной страны», о недоступном пространстве контрастных образов и противоречивых чувств: это, конечно, «гордыня», — говорит он, но также «неудовлетворенность, надежда, легковерие, разрыв, всегда неистовая страсть». И добавляет не без доли истины: «Но не мудрость и не благоразумие. А может быть, кто знает, что-то гораздо лучше этого» (Bonnefoy, 1972, р. 26). Как могло бы быть иначе, если человеческая психика устроена так, что «длительным чаяниям» соответствует «смутная интуиция». Искушение состоит в том, чтобы оставаться в видимой и непосредственной определенности; но не является ли аналитическая работа с нашими пациентами даруемой возможностью научиться жить с неопределенностью, «слышать, — как говорит Бонфуа, — в определенности постоянный, разрастающейся, животворный ноток ирреальности», путешествуя с ними по этим далеким странам, о которых можно мечтать и которые обладают, по выражению поэта, «как ничто другое в этом мире достоинством быть далекими, непредсказуемыми и неизведанными».
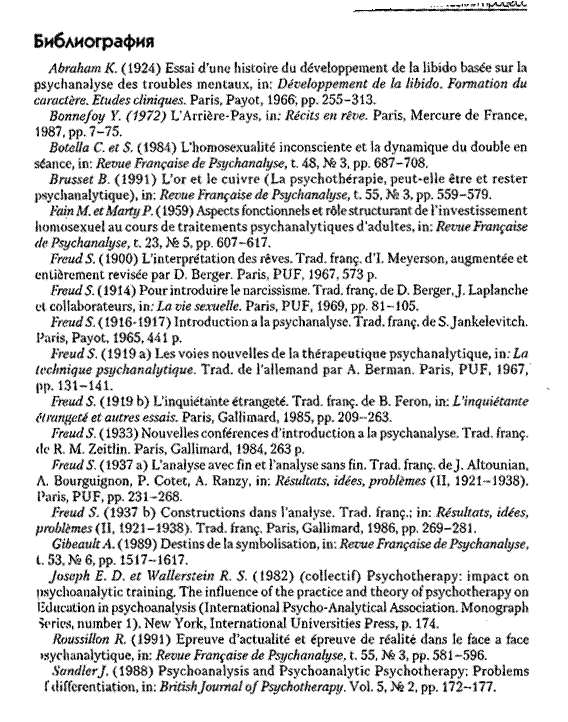
Жюлия Кристева
НОВЫЕ БОЛЕЗНИ ДУШИ.
 |
Душа и мысленное представление
Более важно, что люди создают Логос души, а не тела.
Демокрит
Есть ли у вас душа? Этот вопрос, который может быть философским, теологическим или же просто неверно истолкованным, имеет особую значимость для нашего времени. В век психиатрической медицины, аэробики и господства средств массовой информации возможно ли все еще существование души?
Медицина или философия?
Плодотворные дискуссии между древнегреческими врачами и философами привели в результате к ряду тонких изменений понятия «psyche», прежде чем оно стало понятием «anima» греко-римского стоицизма. Врачи периода античности вновь обратились к метафизическому различию между понятиями тела и души и пришли к плодотворной аналогии, которая послужила прообразом современной психиатрии: они говорили о «болезнях души», которые сравнивались с болезнями тела. Эти болезни души включали страсти, от печали до радости, и даже бредовые состояния. Хотя, некоторые врачи использовали этот параллелизм для обоснования «монистической» концепции человека, для большинства из них радикальное отличие между психической и соматической сферами подтверждалось взаимным присутствием этих сфер, если не их изоморфизмом.
С античных времен господствовало преобладание дуалистических воззрений: никоторые люди высказывались в поддержку представлений о комплементарности движущих сил в этих сферах, в то время как другие говорили о трудноразрешимых противоречиях. Несмотря на предпринимавшиеся научные усилия, в ходе которых делались попытки свести психику к соме, душа, которую нам не удастся локализовать (находится ли она в сердце? в тканевой жидкости? В мозге?), остается непостижимой загадкой. Как смысловая структура, психика олицетворяет связь между говорящим и слушающим, которая наделяет ее терапевтической и моральной ценностью. Кроме того, делая нас ответственными за наши
тела, психика спасает нас от биологического фатализма и формирует нас в качестве обладающих даром речи существ1.
Инкарнация Христа, то есть телесные и душевные страсти человека-бога, дала импульс для психического динамизма, который питал внутреннюю жизнь христиан в течение двух тысяч лет. Пылкие эксцессы, направленные на абсолютный субъект — Бога или Христа — перестали считаться патологическими. Вместо этого они воспринимались как отображающие мистическое странствование души, стремящейся к Абсолюту. Однако прежде чем стало возможно переосмысление душевного заболевания, должна была быть подорвана диалектика троицы, анатомия должна была начать применяться к телу, и болезненные душевные состояния должны были стать объектами наблюдения и исследования. В тот период душевное заболевание укоренилось в священном месте психиатрической больницы. Мишель Фуко написал чудесный рассказ о такой клинике, в которой признавалась душа, но лишь как знак больного тела2. Давайте вспомним, однако, что такое восприятие возникло задолго до эры разума, ибо его корни могут быть прослежены к греческой философии и медицине, представители которых ввели отличие и пропели аналогию между болезнями тела и болезнями души. Подобно древним грекам, современные психиатры — в особенности Филипп Пинель3 — выступали в поддержку физических и моральных теорий происхождения душевного заболевания4.
Фройд может быть помещен в русле этой традиции, ибо он недвусмысленно выступал в поддержку философского дуализма5, который он развивал посредством своей концепции «психического аппарата»6 — теоретической конструкции, которая несводима к телу, подвержена биологическим воздействиям, однако главным образом наблюдаема в языковых структурах. Будучи прочно укоренена
в биологии посредством влечений, однако, зависящая от автономной логики, душа, как «психический аппарат», дает начало психологическим и соматическим симптомам и видоизменяется в ходе переноса.

Однако, отдавая приоритет душе, исследования бессознательного и переноса привели к более значительному результату, чем простое возрождение древнегреческой дискуссии относительно души и тела. И что еще важнее, фройдовское понятие психики бросает вызов этому ранее предполагавшемуся дуализму и выходит за рамки гипертрофии психологического, которую многие исследователи рассматривают как определяющую черту психоанализа. Аналогичным образом, различные аспекты психоанализа пересекают границу между телом и душой и исследуют различные элементы, которые переступают пределы этой дихотомии: например, энергетический компонент влечений, определение смысла на основании сексуального желания и осуществление лечения внутри границ переноса, который понимается как повторение более ранних психосенсорных травм. Тем не менее, лингвистический механизм остается в основе лечения: как означающий Конструкт, речь как анализанта, так и аналитика включает в себя различные серии репрезентаций. Мы осознаем многообразие этих серий, однако можем справедливо утверждать, что они являются преимущественно «психическими» по своему происхождению, сколь бы далеко сводимыми они ни были к тому биологическому субстрату, который современная наука более или менее установила для нас.
Предлагая различные модели души, психоанализ расширяет наше понятие «psyche», признает особенности наших способов обозначения и абсорбирует патологию в специальные логические системы. Хотя понятие психологического недуги по утратило своей специфической валидности, психоанализ склонен связывать его с одной из логических возможностей, неотъемлемо присутствующих в любом фройдовском «психическом аппарате» или лакановском «поле речи» (parletre). Хотя понятия «нормы» и «аномалии» также подвергаются сомнению, воздействие психоанализа не ограничивается в результате ниспровержением — которое привлекало свободные умы в течение почти сотни лет. Акценты на смысле и использовании эротизированной речи в переносе остаются наиболее важными чертами необычной судьбы открытия Фройда.
Будучи лояльным к этике человека, которую Запад разработал внутри сфер своей философии, религии и науки, психоанализ взывает к жизни говорящих существ, усиливая и исследуя их психическую жизнь. Вы живы тогда и только тогда, когда вы обладаете психической жизнью. Какой бы расстраивающей, непереносимой, смертоносной или возбуждающей не могла она быть, эта психическая жизнь — которая объединяет различные системы репрезентации, вовлекающие в себя использование языка, - дает нам доступ к нашему телу и к другим людям. Вследствие обладания душой мы способны к действию. Наша психическая жизнь является дискурсом, который функционирует. Вредит ли она нам или спасает нас, мы являемся ее субъектом. Наша цель здесь состоит в анализе психической жизни, то есть в ее разрушении и последующем восстановлении. Важные воздействия полных смысла репрезентаций никогда ранее не осознавались и не использовались столь точно и значимо. С Фройдом произошло возрождение psyche. Обогащенная иудейским плюрализмом ее интерпретаций, душа развилась в многогранную и полифоническую психику, которая лучше оснащена для обслуживания
«пресуществления» живого тела. Следовательно, мы можем оценить осуществленный Фройдом могущественный синтез предшествующих традиций, ибо посредством приписывания душе новой ценности Фройд смог подробно разработать курс действий, который являлся одновременно терапевтическим и моральным.
Прогресс в естественных науках, в особенности в биологии и неврологии, сделал для нас возможным представлять смерть души. Так как мы постоянно декодируем секреты нейронов, их тенденции и их электрические движущие силы, неужели мы до сих пор нуждаемся в этой устарелой химере? Не продвинулись ли мы уже к когнитивным конструктам, которые смогут объяснить как клеточное, так и человеческое поведение?
Как бы там ни было, нельзя не заметить, что эта тема, душа, которая считалась изгнанной из «чистых» наук, находится в процессе триумфального возвращения в большинстве утонченных биологических теорий, которые входят в разряд когнитивной науки. «Образ присутствует в мозге до объекта»1, — утверждают биологи. «Когнитивная архитектура не ограничена нервной системой; напротив, нервная система пронизывается когнитивной архитектурой, которая здесь присутствует».2 «Мы не можем здесь обойтись без телеономии».3 «Невозможно понять, как можно представить психическое функционирование, которое не включало бы в себя репрезентацию цели, то есть, которое не подразумевало бы субъекта, который пытается представлять как себя, так и свою ожидаемую цель».4
Образ до объекта, субъект, телеономия, репрезентация: где же может быть обнаружена душа? Если цель когнитивной науки не в том, чтобы вести биологию к возрождению спиритуализма, мы можем задаться вопросом, как устроена душа. Какие репрезентации и какие логические переменные образуют душу? Психоанализ необязательно дает ответы на эти вопросы, но это та дисциплина, которая ищет на них ответы.
|
|
|


