 |
Конкретные отношения с другим 2 страница
|
|
|
|
Вместе с тем, если любимый может нас любить, он всегда готов быть ассимилированным нашей свободой, так как это любимое-бытие, которое мы желаем, и есть уже онтологическое доказательство, примененное к нашему бытию-для-другого. Наша объективная сущность предполагает существование другого, и наоборот, именно свобода другого основывает нашу сущность. Если бы мы смогли интериоризовать всю систему, мы были бы своим собственным основанием.
Такова, следовательно, реальная цель любящего, поскольку его любовь является действием, то есть проектом самого себя. Этот проект должен вызвать конфликт. В самом деле, любимый постигает любящего как другого-объекта среди других, то есть он воспринимает его на фоне мира, трансцендирует его и использует. Любимый является взглядом. Он, следовательно, не должен использовать ни свою трансценденцию, чтобы определить конечную границу своих возвышений, ни свою свободу, чтобы взять ее в плен. Любимый не знает желания любить. Отсюда, любящий должен соблазнить любимого; и его любовь не отличается от этого действия соблазна. В соблазне я совсем не стремлюсь открыть в другом свою субъективность; я мог бы это делать, впрочем, только рассматривая другого; но этим взглядом я устранял бы субъективность другого, а именно ее я хочу ассимилировать. Соблазнять — значит брать на себя полностью свою объективность для другого и подвергать ее риску; значит ставить себя под его взгляд, делать себя рассматриваемым им и подвергать опасности рассматривав мое-бытие, чтобы осуществить новый уход и присвоить себе другого в моей объектности и через нее. Я отказываюсь покидать почву, на которой я испытываю свою объект-ность; именно на этой почве я хочу вступить в борьбу, делая себя очаровывающим объектом. Во второй части мы определили очарование как состояние; это, говорили мы, нететическое сознание быть ничто в присутствии бытия. Соблазн имеет целью вызвать у другого сознание своей ничтожности перед соблазняющим объектом. Посредством соблазна я намерен конституироваться как полное бытие и заставить признать меня как такового. Для этого я конституируюсь в значимый объект. Мои действия должны указывать в двух направлениях. С одной стороны, на то, что напрасно называют субъективностью и что скорее является объективной и скрытой глубиной бытия; действие не производится только для него самого, а указывает на бесконечный и недифференцированный ряд других реальных и возможных действий, которые я предлагаю в качестве конституирующих мое объективное и незамеченное бытие. Таким образом, я пытаюсь руководить трансцендентностью, которая меня трансцендирует, и отослать ее к бесконечности моих мертвых-возможностей как раз для того, чтобы быть непревзойденным именно в той степени, в какой единственно непревзойденной оказывается бесконечность. С другой стороны, каждое из моих действий пытается указать на самую большую плотность возможного-мира и должно представлять меня в качестве связанного с самыми обширными областями мира; или я представляю мир любимому и пытаюсь конституироваться как необходимый посредник между ним и миром, или я просто обнаруживаю своими действиями бесконечно различные возможности в мире (деньги, власть, связь и т. д. ). В первом случае я пытаюсь конституироваться как бесконечная глубина, во втором — отождествляюсь с миром. Этими различными методами я предлагаю себя в качестве непревышаемого. Это предложение не может быть достаточным само по себе; оно есть только окружение другого, оно не может иметь фактической ценности без согласия свободы другого, которая должна взять себя в плен, признавая себя в качестве ничто перед моей полнотой абсолютного бытия.
|
|
|
13*
|
|
|

 Скажут, что эти различные попытки выражения предполагают язык. Мы не будем этого отрицать, лучше скажем: они суть язык или, если хотите, фундаментальный модус языка. Так как если и имеют место психологические и исторические проблемы, касающиеся существования, усвоения и использования такого-то отдельного языка, то нет никакой особой проблемы, касающейся того, что называют изобретением языка. Язык не является добавочным феноменом к бытию-для-другого; он первоначально есть бытие-для-другого, то есть тот факт, что субъективность испытывается как объект для другого. В универсуме чистых объектов язык ни в коем случае не может быть " изобретен", поскольку он первоначально предполагает отношение к другому субъекту; и в интерсубъективности для-других его не нужно изобретать, так как он уже дан в признании другого. Поскольку, что бы я ни делал, мои действия, свободно задуманные и исполняемые, мои проекты к моим возможностям имеют внешний смысл, который от меня ускользает и который я испытываю, я есть язык. В этом смысле, и только в этом смысле, Хайдеггер имеет основание заявить, что я являюсь тем, что я говорю1. В самом деле, этот язык не является инстинктом конституированного человеческого существа; он не есть также изобретение нашей субъективности; но нельзя также сводить его к чистому " бытию-за-предела-ми-себя" " Dasein". Он составляет часть человеческого существования; он первоначально является опытом, который для-себя может производить из своего бытия-для-другого, а затем — использованием этого опыта, его переводом к моим возможностям, то есть к возможностям быть этим или тем для другого. Он не отличается, таким образом, от признания существования другого. Появление другого передо мной в качестве взгляда приводит к появлению языка как условия моего бытия. Этот первичный язык не является обязательно соблазном; мы увидим здесь другие формы; впрочем, мы отмечали, что нет никакой первоначальной установки перед лицом другого и что они следуют одна за другой в круге, каждая предполагая другую. Но и наоборот, соблазн не предполагает никакой формы, предшествующей языку; он полностью является реализацией языка; это значит, что язык может полностью и сразу открываться посредством соблазна как первичный способ бытия выражения. Само собой разумеется, что под языком мы понимаем все феномены выражения, а не членораздельную речь, которая является чем-то вторичным и производным, чье появление может стать объектом исторического исследования. В частности, в соблазне язык не стремится давать знание, а заставляет пережить.
Скажут, что эти различные попытки выражения предполагают язык. Мы не будем этого отрицать, лучше скажем: они суть язык или, если хотите, фундаментальный модус языка. Так как если и имеют место психологические и исторические проблемы, касающиеся существования, усвоения и использования такого-то отдельного языка, то нет никакой особой проблемы, касающейся того, что называют изобретением языка. Язык не является добавочным феноменом к бытию-для-другого; он первоначально есть бытие-для-другого, то есть тот факт, что субъективность испытывается как объект для другого. В универсуме чистых объектов язык ни в коем случае не может быть " изобретен", поскольку он первоначально предполагает отношение к другому субъекту; и в интерсубъективности для-других его не нужно изобретать, так как он уже дан в признании другого. Поскольку, что бы я ни делал, мои действия, свободно задуманные и исполняемые, мои проекты к моим возможностям имеют внешний смысл, который от меня ускользает и который я испытываю, я есть язык. В этом смысле, и только в этом смысле, Хайдеггер имеет основание заявить, что я являюсь тем, что я говорю1. В самом деле, этот язык не является инстинктом конституированного человеческого существа; он не есть также изобретение нашей субъективности; но нельзя также сводить его к чистому " бытию-за-предела-ми-себя" " Dasein". Он составляет часть человеческого существования; он первоначально является опытом, который для-себя может производить из своего бытия-для-другого, а затем — использованием этого опыта, его переводом к моим возможностям, то есть к возможностям быть этим или тем для другого. Он не отличается, таким образом, от признания существования другого. Появление другого передо мной в качестве взгляда приводит к появлению языка как условия моего бытия. Этот первичный язык не является обязательно соблазном; мы увидим здесь другие формы; впрочем, мы отмечали, что нет никакой первоначальной установки перед лицом другого и что они следуют одна за другой в круге, каждая предполагая другую. Но и наоборот, соблазн не предполагает никакой формы, предшествующей языку; он полностью является реализацией языка; это значит, что язык может полностью и сразу открываться посредством соблазна как первичный способ бытия выражения. Само собой разумеется, что под языком мы понимаем все феномены выражения, а не членораздельную речь, которая является чем-то вторичным и производным, чье появление может стать объектом исторического исследования. В частности, в соблазне язык не стремится давать знание, а заставляет пережить.
|
|
|
Но в этой первой попытке найти очаровывающий язык я иду на ощупь, поскольку я веду себя только в соответствии с абстрактной и пустой формой моей объективности для другого. Я не могу даже
Формула взята из: A. de Waehlens. La Philosophie de Martin Heigegger. Louvain, 1942, p. 99. Ср. также текст Хайдеггера, который он цитирует: " Diese Bezeugung meint nicht hier einen nachtraglichen und bei her laufenden Ausdruck des Menschseins, sondern sie macht das Dasein des Menschen mit usw. " (Holderlin und das Wesen der Dichtung", S. 6). (" Это свидетельство имеет здесь в виду не добавочное и преходящее выражение бытия человека, но оно составляет бытие-здесь человека и т. д. " ) (нем. ). — Ред.
понять, какой эффект произведут мои жесты и мои позиции, поскольку они всегда будут основываться на свободе и поправлены свободой, которая их опережает, и могут иметь значение, только если эта свобода им придаст его. Таким образом, " смысл" моих выражений всегда ускользает от меня; я никогда не знаю точно, означаю ли я то, что хочу означать, ни даже являюсь ли я значащим; в этот самый момент нужно было бы, чтобы я читал в другом то, что в принципе непостижимо. Из-за недостатка знания того, что я фактически выражаю для другого, я конституирую свой язык как неполный феномен бегства за свои пределы. В то время как я выражаю себя, я могу только предполагать смысл того, что я выражаю, то есть, в сущности, смысл того, что я есть, поскольку в этом плане выражать и быть есть одно и то же. Другой находится всегда здесь, в настоящем, и переживается в качестве того, что дает языку его смысл. Каждое выражение, каждый жест, каждое слово является с моей стороны конкретным переживанием отчуждающейся реальности другого. Не только психопат может сказать, как в случае, например, психозов влияния1: " У меня украли мысль". Но сам факт выражения есть воровство мысли, поскольку мысль имеет нужду в помощи отчуждающей свободы, чтобы конституироваться как объект. Поэтому первым аспектом языка, поскольку именно я использую его для другого, является священное. В самом деле, священный объект является объектом мира, который указывает на трансцендентность по другую сторону мира. Язык мне открывает свободу того, кто слушает меня в молчании, то есть его трансцендентность.
|
|
|
Но в тот же самый момент для другого я остаюсь значащим объектом — тем, чем я всегда был. Нет никакого пути, который бы исходя из моей объективности мог указать другому на мою трансцендентность. Установки, выражения и слова могут всегда указывать только на другие установки, другие выражения и другие слова. Таким образом, язык остается для другого простым свойством магического объекта и самим магическим объектом; он есть действие на расстоянии, последствия которого другой знает точно. Таким образом, слово является священным, когда именно я его использую, и магическим, когда другой его слушает. Следовательно, я не знаю моего языка больше, чем мое тело для другого. Я не могу ни слышать себя говорящим, ни видеть свою улыбку. Проблема языка в точности сходна с проблемой тела, и описания, пригодные в одном случае, имеют значение и для другого.
Однако очарование, даже если оно должно вызвать в другом очарованное бытие, не достигает само по себе того, чтобы вызвать любовь. Можно поддаться очарованию оратора, актера, эквилибриста, но это не значит, что кого-либо из них любят. Конечно, нельзя оторвать от него глаз, но он выделяется еще на фоне мира, и очарование не полагает очаровывающий объект как окончательную границу трансцендентности; совсем напротив, оно есть трансцендентность. Когда же, однако, любимый в свою очередь станет любящим?
1 Впрочем, психоз влияния, как большинство психозов, оказывается опытом исключительным и выражается мифами, касающимися важного метафизического факта: здесь факта отчуждения. Сумасшедший всегда только реализует на свой лад человеческое существование.

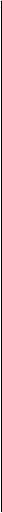 Ответ прост: когда он будет проектировать быть любимым. В себе Другой-объект никогда не имеет достаточно силы, чтобы вызвать любовь. Если любовь имеет своим идеалом присвоение другого как другого, то есть как рассматривающую субъективность, этот идеал может быть проектирован только исходя из моей встречи с другим-субъектом, но не с другим-объектом. Соблазн может приукрасить другого-объекта, который пытается меня соблазнить, лишь обладая свойством дорогого объекта, которым " нужно завладеть"; он подвигнет меня, может быть, на большой риск, чтобы завоевать его; но это желание присвоения объекта в середине мира не должно быть смешано с любовью. Любовь может родиться у любимого только из опыта, который он получает от своего отчуждения и своего бегства к другому. Но любимый, если он находится здесь, снова преобразуется в любящего, только если он проектирует быть любимым, то есть если то, что он хочет завоевать, является не телом, а субъективностью другого как такового. Действительно, единственное средство, которое он смог бы задумать, чтобы реализовать присвоение, — это заставить полюбить себя. Таким образом, нам представляется, что любить — это в своей сущности проект заставить полюбить себя. Отсюда и новое противоречие, и новый конфликт; каждый из любящих полностью пленен другим, поскольку он хочет заставить любить себя за исключением всех остальных; но в то же время каждый требует от другого любви, которая вовсе не сводится к " проекту быть любимым". Он требует, чтобы другой, не стремясь первоначально заставить любить себя, имел бы интуицию одновременно созерцательную и аффективную своего любимого как объективную границу его свободы, как неизбежное и избранное основание его трансцендентности, как целостность бытия и высшую ценность. Требуемая таким образом от другого любовь не может ничего требовать; она является чистой вовлеченностью без взаимности. Но как раз эта любовь не могла бы существовать иначе как в качестве требования любящего; совсем другое дело, когда любящий пленен; он пленен самим своим требованием в той степени, в какой любовь является требованием быть любимым; она есть свобода, которая хочет себе тела и требует внешности; иначе говоря, свобода, которая изображает бегство к другому, которая в качестве свободы требует своего отчуждения. Свобода любящего в самом его усилии заставить другого любить себя в качестве объекта отчуждается, уходя в тело-для-другого, то есть создает себя как существующую измерением бегства к другому; она оказывается постоянным отрицанием полагания себя в качестве чистой самости, так как это полагание себя как самого себя повлекло бы исчезновение другого в качестве взгляда и появление другого-объекта, следовательно, состояния вещей, где сама возможность быть любимым устранилась бы, поскольку другой редуцировался бы к измерению объективности. Это отрицание, стало быть, конституирует свободу как зависящую от другого, и другой как субъективность становится непревзойденной границей свободы для-себя, высшей целью, поскольку он хранит ключ от его бытия. Мы снова находим здесь, конечно, идеал любовного предприятия: отчужденную свободу. Но именно тот, кто хочет быть любимым, и поскольку он хочет, чтобы его любили, отчуждает свою свободу. Моя свобода отчуждается в при-
Ответ прост: когда он будет проектировать быть любимым. В себе Другой-объект никогда не имеет достаточно силы, чтобы вызвать любовь. Если любовь имеет своим идеалом присвоение другого как другого, то есть как рассматривающую субъективность, этот идеал может быть проектирован только исходя из моей встречи с другим-субъектом, но не с другим-объектом. Соблазн может приукрасить другого-объекта, который пытается меня соблазнить, лишь обладая свойством дорогого объекта, которым " нужно завладеть"; он подвигнет меня, может быть, на большой риск, чтобы завоевать его; но это желание присвоения объекта в середине мира не должно быть смешано с любовью. Любовь может родиться у любимого только из опыта, который он получает от своего отчуждения и своего бегства к другому. Но любимый, если он находится здесь, снова преобразуется в любящего, только если он проектирует быть любимым, то есть если то, что он хочет завоевать, является не телом, а субъективностью другого как такового. Действительно, единственное средство, которое он смог бы задумать, чтобы реализовать присвоение, — это заставить полюбить себя. Таким образом, нам представляется, что любить — это в своей сущности проект заставить полюбить себя. Отсюда и новое противоречие, и новый конфликт; каждый из любящих полностью пленен другим, поскольку он хочет заставить любить себя за исключением всех остальных; но в то же время каждый требует от другого любви, которая вовсе не сводится к " проекту быть любимым". Он требует, чтобы другой, не стремясь первоначально заставить любить себя, имел бы интуицию одновременно созерцательную и аффективную своего любимого как объективную границу его свободы, как неизбежное и избранное основание его трансцендентности, как целостность бытия и высшую ценность. Требуемая таким образом от другого любовь не может ничего требовать; она является чистой вовлеченностью без взаимности. Но как раз эта любовь не могла бы существовать иначе как в качестве требования любящего; совсем другое дело, когда любящий пленен; он пленен самим своим требованием в той степени, в какой любовь является требованием быть любимым; она есть свобода, которая хочет себе тела и требует внешности; иначе говоря, свобода, которая изображает бегство к другому, которая в качестве свободы требует своего отчуждения. Свобода любящего в самом его усилии заставить другого любить себя в качестве объекта отчуждается, уходя в тело-для-другого, то есть создает себя как существующую измерением бегства к другому; она оказывается постоянным отрицанием полагания себя в качестве чистой самости, так как это полагание себя как самого себя повлекло бы исчезновение другого в качестве взгляда и появление другого-объекта, следовательно, состояния вещей, где сама возможность быть любимым устранилась бы, поскольку другой редуцировался бы к измерению объективности. Это отрицание, стало быть, конституирует свободу как зависящую от другого, и другой как субъективность становится непревзойденной границей свободы для-себя, высшей целью, поскольку он хранит ключ от его бытия. Мы снова находим здесь, конечно, идеал любовного предприятия: отчужденную свободу. Но именно тот, кто хочет быть любимым, и поскольку он хочет, чтобы его любили, отчуждает свою свободу. Моя свобода отчуждается в при-
|
|
|
сутствии чистой субъективности другого, который основывает мою объективность; она отнюдь не должна отчуждаться перед лицом другого-объекта. В этой форме отчуждение любимого, о котором мечтает любящий, было бы противоречивым, поскольку любимый может основать бытие любящего, только трансцендируя его, в сущности, к другим объектам мира; стало быть, эта трансцендентность не может конституировать одновременно объект, который она превосходит как трансцен-дированный объект и предельный объект всякой трансцендентности. Таким образом, в любовной паре каждый хочет быть объектом, для которого свобода другого отчуждается в первоначальной интуиции; но эта интуиция, которая была бы, собственно говоря, любовью, есть лишь противоречивый идеал для-себя; следовательно, каждый отчуждается лишь в той степени, в какой он требует отчуждения другого. Каждый хочет, чтобы другой его любил, не отдавая себе отчета, что любить — значит хотеть быть любимым и что, следовательно, желая, чтобы другой его любил, он хочет только, чтобы другой хотел, чтобы он его любил. Таким образом, любовные отношения оказываются системой неопределенных отсылок, аналогичных чистому " отражению-отражае-мому" сознания под идеальным знаком ценности " любовь", то есть соединения сознаний, где каждое сохраняло бы свою " инаковость", чтобы основать другое. В действительности как раз сознания отделены непреодолимым ничто, поскольку оно является одновременно внутренним отрицанием одного другим и фактическим отрицанием, находящимся между двумя внутренними отрицаниями. Любовь является противоречивым усилием преодолеть фактическое отрицание, сохраняя полностью внутреннее отрицание. Я требую, чтобы другой любил меня, и делаю все возможное для реализации своего проекта; но если другой меня любит, он в принципе обманывает меня своей любовью; я требовал от него, чтобы он основал мое бытие в качестве привилегированного объекта, утверждаясь как чистая субъективность передо мной; и в то время как он меня любит, он испытывает меня в качестве субъекта и погружается в свою объективность перед моей субъективностью. Проблема моего бытия-для-другого остается, следовательно, без решения, любящие остаются каждый для себя в полной субъективности; ничто не освобождает их от обязанности существовать каждый для себя; ничто не приходит, чтобы устранить их случайность и спасти их от фактичности. По крайней мере, каждый выиграл от того, что не находится больше в опасности от свободы другого, но совсем по-другому, о чем он и не думал; в действительности совсем не от того, что другой делает его бытие объектом-границей своей трансцендентности, но потому, что другой испытывает его в качестве субъективности и хочет испытывать только как такового. Выигрышем еще является постоянный компромисс; с самого начала в каждый момент каждое из сознаний может освободиться от его оков и созерцать сразу другого в качестве объекта. Когда чары прекращаются, другой становится средством среди средств; он является, конечно, тогда объектом для другого, как он и желал этого, но объектом-орудием, объектом, постоянно трансцендируемым; иллюзия зеркальных игр, которая составляет конкретную реальность любви, тут же прекращается. Наконец, в любви каждое сознание пытается тут же


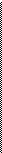 поставить под защиту свое бытие-для-другого в свободе другого. Это предполагает, что другой находится по ту сторону мира как чистая субъективность, как абсолют, посредством которого мир приходит в бытие. Но достаточно того, чтобы любящие вместе были бы рассматриваемыми третьим, чтобы каждый испытал объективацию не только самого себя, но и другого. Другой сразу же перестает для меня быть абсолютной трансцендентностью, которая основывает меня в моем бытии, но он оказывается трансцендентностью-трансцендируемой, посредством не меня, но другого, и мое первоначальное отношение к нему, то есть мое отношение любимого бытия к любящему, застывает в мертвую-возмож-ность. Это уже не переживаемое отношение объекта как границы всякой трансцендентности в свободе, которая его основывает, но это любовь-объект, который отчуждается целиком к третьему. Такова истинная причина того, почему любящие ищут уединения. Как раз появление третьего, каким бы он ни был, является разрушением их любви. Но фактическое уединение (мы одни в моей комнате) совсем не является уединением по праву. В самом деле, даже если никто не видит нас, мы существуем для всех сознаний, и у нас есть сознание существования для всех; отсюда вытекает, что любовь как основной модус бытия-для-другого имеет в своем бытии-для-другого источник своего краха. Мы определим сейчас тройную разрушаемость любви. Во-первых, она является, в сущности, обманом и отсылкой в бесконечность, потому что любить — это значит хотеть, чтобы меня любили, следовательно, хотеть, чтобы другой желал, чтобы я его любил. И доон-тологическое понимание этого обмана дается в самом любовном порыве; отсюда — постоянная неудовлетворенность любящего. Она проистекает, как это часто говорят, не из недостойности любимого бытия, но из скрытого понимания того, что любовная интуиция, как интуиция-основание, оказывается недостижимым идеалом. Чем больше меня любят, тем больше я теряю свое бытие, тем больше я отказываюсь от своей собственной ответственности, от своей собственной возможности бытия. Во-вторых, пробуждение другого всегда возможно, он может в любой момент представить меня как объект; отсюда — постоянная неуверенность любящего. В-третьих, любовь является абсолютом, постоянно релятивизируемым другими. Нужно было бы быть в мире единственным с любимым, чтобы любовь сохраняла свой характер абсолютной оси отношения. Отсюда — постоянный стыд (или гордость, что то же самое здесь) любящего.
поставить под защиту свое бытие-для-другого в свободе другого. Это предполагает, что другой находится по ту сторону мира как чистая субъективность, как абсолют, посредством которого мир приходит в бытие. Но достаточно того, чтобы любящие вместе были бы рассматриваемыми третьим, чтобы каждый испытал объективацию не только самого себя, но и другого. Другой сразу же перестает для меня быть абсолютной трансцендентностью, которая основывает меня в моем бытии, но он оказывается трансцендентностью-трансцендируемой, посредством не меня, но другого, и мое первоначальное отношение к нему, то есть мое отношение любимого бытия к любящему, застывает в мертвую-возмож-ность. Это уже не переживаемое отношение объекта как границы всякой трансцендентности в свободе, которая его основывает, но это любовь-объект, который отчуждается целиком к третьему. Такова истинная причина того, почему любящие ищут уединения. Как раз появление третьего, каким бы он ни был, является разрушением их любви. Но фактическое уединение (мы одни в моей комнате) совсем не является уединением по праву. В самом деле, даже если никто не видит нас, мы существуем для всех сознаний, и у нас есть сознание существования для всех; отсюда вытекает, что любовь как основной модус бытия-для-другого имеет в своем бытии-для-другого источник своего краха. Мы определим сейчас тройную разрушаемость любви. Во-первых, она является, в сущности, обманом и отсылкой в бесконечность, потому что любить — это значит хотеть, чтобы меня любили, следовательно, хотеть, чтобы другой желал, чтобы я его любил. И доон-тологическое понимание этого обмана дается в самом любовном порыве; отсюда — постоянная неудовлетворенность любящего. Она проистекает, как это часто говорят, не из недостойности любимого бытия, но из скрытого понимания того, что любовная интуиция, как интуиция-основание, оказывается недостижимым идеалом. Чем больше меня любят, тем больше я теряю свое бытие, тем больше я отказываюсь от своей собственной ответственности, от своей собственной возможности бытия. Во-вторых, пробуждение другого всегда возможно, он может в любой момент представить меня как объект; отсюда — постоянная неуверенность любящего. В-третьих, любовь является абсолютом, постоянно релятивизируемым другими. Нужно было бы быть в мире единственным с любимым, чтобы любовь сохраняла свой характер абсолютной оси отношения. Отсюда — постоянный стыд (или гордость, что то же самое здесь) любящего.
Таким образом, напрасно я пытался бы потеряться в объективном; моя страсть не приведет ни к чему; другой меня отсылает сам или через других к моей неоправдываемой субъективности. Это утверждение может вызвать полное отчаяние и новую попытку осуществить ассимиляцию другого и меня самого. Ее идеалом будет обратное тому, что мы только что описали; вместо того чтобы проектировать овладение другим, сохраняя в нем его " инаковость", я буду проектировать овладение меня другим и потерю себя в его субъективности, чтобы освободиться от своей. Это предприятие находит свое выражение в конкретной мазохистской установке; поскольку другой есть основание моего бытия-для-другого, то, если бы я поручил другому сделать меня существу-
ющим, я не был бы больше только бытием-в-себе, основанным в его бытии свободой. Здесь именно моя собственная субъективность рассматривается как препятствие первоначальному акту, посредством которого другой основывал бы меня в моем бытии; речь идет здесь прежде всего о ней, чтобы отрицать ее с моей собственной свободой. Я пытаюсь, следовательно, включиться полностью в свое бытие-объекта; я отказываюсь быть чем-либо, кроме объекта; я нахожусь в другом; и так как я испытываю это бытйе-объекта в стыде, я хочу и люблю свой стыд как глубокий знак моей объективности; а так как другой постигает меня как объект посредством настоящего желания1, я хочу быть желаемым, я делаю себя объектом желания в стыде. Эта установка была бы в достаточной степени похожей на установку любви, если, вместо того чтобы стремиться существовать для другого как объект-граница его трансцендентности, я, напротив, не возражал бы, чтобы со мной обходились как с объектом среди других, как с инструментом, который можно использовать; значит, в действительности речь идет о том, чтобы отрицать мою трансцендентность, а не его. Я не могу на этот раз проектировать пленение его свободы, но, наоборот, желаю, чтобы эта свобода была бы и хотела быть радикально свободной. Таким образом, чем больше я буду ощущать себя переведенным к другим целям, тем больше я буду наслаждаться отказом от своей трансцендентности. В пределе я проектирую не быть больше ничем, кроме объекта, то есть принципиально в-себе. Но поскольку свобода, которая поглотила бы мою свободу, будет основанием этого в-себе, мое бытие снова стало бы своим основанием. Мазохизм, как и садизм2, является принятием на себя (assomption)3 виновности. Я виновен, потому что я являюсь объектом. Виновен по отношению к самому себе, поскольку я соглашаюсь на свое абсолютное отчуждение, виновен по отношению к другому, так как я ему предоставил случай быть виновным через радикальное отсутствие моей свободы как таковой. Мазохизм является попыткой не очаровывать другого своей объективностью, но очаровывать самого себя своей объективностью-для-другого, то есть заставить другого конституировать меня в объект таким способом, чтобы я нететически постигал свою субъективность в качестве ничто в присутствии в-себе, которое я представляю в глазах другого. Он характеризуется как некоторого рода головокружение — головокружение не перед земной пропастью, но перед бездной субъективности другого.
Но махозизм является и должен быть в самом себе поражением; для того чтобы очароваться своим я-объектом, необходимо, чтобы я мог бы реализовать интуитивное восприятие этого объекта, каким он является для другого, что в принципе невозможно. Таким образом, отчужденное я, далекое от того, чтобы я мог даже начать очаровываться им, остается в принципе непостижимым. Мазохист прекрасно может ползать на коленях, показывать себя в смешных, нелепых позах, позволять исполь-
1 См. следующий параграф.
2 См. следующий параграф.
3от assumer — брать на себя, притязать (фр. ); assomption можно перевести и как возвышение (ср. релит. — успение, т. е. возведение, восшествие). — Ред.
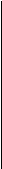
 зовать себя как простое неодушевленное орудие; именно для другого он будет непристойным или просто пассивным, для другого он будет принимать эти позы; для себя он навсегда осужден отдаваться им. Как раз в трансцендентности и через нее он располагается как бытие, которое нужно трансцендировать; и чем больше он будет пытаться насладиться своей объективностью, тем больше он будет переполняться сознанием своей субъективности, вплоть до тревоги. В частности, мазохист, который платит женщине, чтобы она его стегала, обращает ее в инструмент и поэтому располагается в трансцендентности по отношению к ней. Таким образом, мазохист кончает тем, что превращает другого в объект и трансцендирует его к его собственной объективности. Вспомните, например, терзания Захер-Мазоха*, который, чтобы сделать себя презираемым, оскорбляемым, доведенным до униженного положения, вынужден был пользоваться большой любовью, которую предлагали ему женщины, то есть действовать на них, воспринимая их как объект. Так объективность, во всяком случае, ускользала от мазохиста, и могло даже случиться и часто случалось, что, стремясь постигнуть свою объективность, он находил объективность другого, которая, вопреки его воле, высвобождала его субъективность. Мазохизм, следовательно, в принципе есть поражение. Здесь нет ничего, что могло бы нас удивить, если мы поймем, что мазохизм является " пороком" и что порок есть, в сущности, любовь к поражению. Но мы не можем описывать здесь структуры порока как такового. Нам достаточно отметить, что мазохизм есть постоянное усилие устранить субъективность субъекта, делая ее заново ассимилированной другим, и что это усилие сопровождается изнуряющим и восхитительным сознанием поражения, причем таким, что само это поражение, которым кончает субъект, рассматривается как его основная цель1.
зовать себя как простое неодушевленное орудие; именно для другого он будет непристойным или просто пассивным, для другого он будет принимать эти позы; для себя он навсегда осужден отдаваться им. Как раз в трансцендентности и через нее он располагается как бытие, которое нужно трансцендировать; и чем больше он будет пытаться насладиться своей объективностью, тем больше он будет переполняться сознанием своей субъективности, вплоть до тревоги. В частности, мазохист, который платит женщине, чтобы она его стегала, обращает ее в инструмент и поэтому располагается в трансцендентности по отношению к ней. Таким образом, мазохист кончает тем, что превращает другого в объект и трансцендирует его к его собственной объективности. Вспомните, например, терзания Захер-Мазоха*, который, чтобы сделать себя презираемым, оскорбляемым, доведенным до униженного положения, вынужден был пользоваться большой любовью, которую предлагали ему женщины, то есть действовать на них, воспринимая их как объект. Так объективность, во всяком случае, ускользала от мазохиста, и могло даже случиться и часто случалось, что, стремясь постигнуть свою объективность, он находил объективность другого, которая, вопреки его воле, высвобождала его субъективность. Мазохизм, следовательно, в принципе есть поражение. Здесь нет ничего, что могло бы нас удивить, если мы поймем, что мазохизм является " пороком" и что порок есть, в сущности, любовь к поражению. Но мы не можем описывать здесь структуры порока как такового. Нам достаточно отметить, что мазохизм есть постоянное усилие устранить субъективность субъекта, делая ее заново ассимилированной другим, и что это усилие сопровождается изнуряющим и восхитительным сознанием поражения, причем таким, что само это поражение, которым кончает субъект, рассматривается как его основная цель1.
2. Вторая установка по отношению к другому: безразличие, желание, ненависть, садизм
Поражение первой установки по отношению к другому может быть для меня поводом принять вторую. Но, по правде говоря, никакая из двух не является действительно первой; каждая из них оказывается фундаментальной реакцией на бытие-для-другого как первоначальную ситуацию. Возможно, таким образом, что через саму невозможность ассимилировать сознание другого посредством своей объектности для него, я способен свободно обратиться к другому и его рассматривать. В этом случае рассматривать взгляд другого — значит расположиться в своей собственной свободе и пытаться, опираясь на эту свободу, выступить против свободы другого. Таким образом, смысл искомого конфликта был бы в том, чтобы полностью высветить борьбу двух
*В терминах этого описания оно, по крайней мере, является формой эксгибиционизма, который должен быть включен в число мазохистских установок действий. Например, когда Руссо выставлялся напоказ прачкам " не непристойным объектом, но объектом смешным" — см. его " Исповедь", гл. III.
противостоящих свобод как свобод. Но это намерение не может быть непосредственно осуществлено, ведь, поскольку я укрепляюсь в своей свободе перед другим, я делаю из другого трансцендируемую-трансцен-дентность, то есть объект. Историю этого поражения мы сейчас и попытаемся проследить. Следует понять здесь направляющую схему; на другого, который смотрит на меня, я в свою очередь направляю взгляд. Но взгляд рассмотреть нельзя; в то время как я смотрю на взгляд, он исчезает, я вижу только глаза. В этот момент другой становится бытием, которым я владею и которое признало мою свободу. Казалось бы, что моя цель достигнута, поскольку я обладаю бытием, которое имеет ключ от моей объектности, и я могу заставить его испытать мою свободу множеством способов. Но в действительности все проваливается, так как бытие, которое остается у меня в руках, есть другой-объект. Как таковой он потерял ключ от моего бытия-объекта и владеет просто моим образом, который является не чем иным, как одним из его объективных чувств, и больше меня не касается; и если он испытывает следствия моей свободы, если я могу воздействовать на его бытие множеством способов и трансцендировать его возможности ко всем моим возможностям, то это потому, что он является объектом в мире и как таковой не в состоянии признать мою свободу. Мое разочарование полное, поскольку я старался присвоить свободу другого и поскольку я сразу замечаю, что я могу действовать на другого лишь в силу того, что эта свобода исчезла под моим взглядом. Это разочарование будет движущей силой моих последующих попыток отыскать свободу другого через объект, каков он есть для меня, и найти привилегированные действия, которые помогли бы мне присвоить эту свободу посредством полного присвоения тела другого. Эти попытки, как можно догадаться, в принципе обречены на поражение. Но возможно также, что " рассматривать взгляд" было бы моей первоначальной реакцией на мое бытие-для-другого. Это значит, что я могу при моем появлении в мире выбрать себя как рассматривающего взгляд другого и основывать свою субъективность на исчезновении субъективности другого. Именно эту установку мы назовем безразличием по отношению к другому. Речь идет тогда о слепоте по отношению к другим. Но понятие " слепоты" не должно ввести нас в заблуждение; я не подвергаюсь этой слепоте как состоянию; я есть собственная слепота в отношении других, и эта слепота включает скрытое понимание бытия-для-другого, то есть трансцендентность другого как взгляда. Это понимание я просто-напросто сам от себя пытаюсь скрыть. Я осуществляю тогда род фактического солипсизма; другие — эти формы, которые проходят по улице, это магические объекты, которые способны действовать на расстоянии и на которые я могу воздействовать определенными поступками. Я их едва замечаю, я действую, как если бы я был один в мире; я избегаю " людей", как избегаю стен, я уклоняюсь от них, как от препятствий; их свобода-объект является для меня лишь их " коэффициентом враждебности"; я не представляю даже, что они могут меня рассматривать. Несомненно, они имеют какое-то знание обо мне, но это знание меня не касается; речь идет о простых модификациях их бытия, которые не идут от них ко мне и которые запятнаны тем, что мы называем " испытываемой-субъективностью", или " субъективностью-
|
|
|


