 |
Русские актеры — люди веселые. 13 глава
|
|
|
|
Это была грустная игра: на глазах у равнодушных к нему зрителей человек вынужден был делать самое интимное человеческое дело — выяснять взаимоотношения со своей смертью.
Вот он поднялся с колен, глубоко вздохнул и сделал шаг вперед — в пропасть, в смерть, в небытие. Подпрыгнув, он некрасиво упал и растянулся на близких и абсолютно безопасных досках сценического помоста. Прыжок был громоздок, смешон, но никто почему-то не смеялся. Отец лежал на полу в неуклюжей позе и не двигался. Сын неслышно подполз к нему и тоже замер, прислушиваясь.
Наконец Глостер поднял голову. Ощупал ее обеими руками. Затем начал медленно ощупывать землю вокруг себя. И вдруг заорал нехорошим голосом, забился в конвульсиях отчаянья. Он понял, что самоубийство не состоялось, что его бесстыдно надули, что надо начинать все сначала, а это ужасно, и он начал стучать головою о землю, головою о землю, головою о землю, давясь рыданиями и захлебываясь слезами.
Эдгар кинулся к отцу и прижал его к своей груди, но отчаянье придает человеку небывалые силы — старик вырвался и стал снова колотиться о землю. Тогда сын опрокинул отца на спину, зажал руки и голову старика мертвой хваткой и навалился на него всей тяжестью своего тела. Глостер начал беспомощно, по-детски дрыгать ногами и
¶бить ими оземь. Это опять было жутко смещно и опять никто не смеялся... Клубок тел перекатывался по сцене...
Но вот Глостер перестал трепыхаться, сын отпустил его, поднял с земли, начал отряхивать его и утирать, а тот, не обращая ни на что внимания, стоял или сидел, как в столбняке, и только с трагически размеренным однообразием качал и качал головою. Это начиналась та тихая трагедия, о которой говорил Пастернак. Горькая трагедия бессилия.
|
|
|
Артист Иванов делал понятным и зримым то, что мы обычно скрываем даже от себя: в этом сегодняшнем мире ты, человек, не распоряжаешься ничем, у тебя нет ничего своего — ни зрения (у тебя его могут, как у меня, отнять в любой момент), ни воли (только начни, у тебя отберут возможность действовать, превратив твои поступки в бессмыслицу), ни жизни (если понадобится для дела, из тебя ее вышибут, не задумываясь). Даже смертью своей ты не властен распорядиться (тебе не дадут самовольно умереть и превратят твою смерть в такую же ложь, какой они сделали твою жизнь). По своему пессимизму, по глубине тихого отчаяния это был анти-Шекспир. А, может быть, и нет, кто знает? Может быть это был поздний Шекспир, Шекспир "Лира" и "Макбета", Шекспир "Кориолана" и "Тимона Афинского", Шекспир — предшественник Чехова...
В борьбе, в свалке отец с сыном невольно касались и ощупывали друг друга, и отец узнал родного человека. Теперь между ними не было никакой лжи. Между ними теперь была только правда. Непоправимая правда, разделившая их навсегда.
Сын поднял отца, подал ему палку, подставил плечо и они, не спеша, двинулись вперед, к новой жизни, которая не сулила им ни особых радостей, ни особых надежд.
Повторялась ситуация из первой картины спектакля: живой вел неживого. Возникала тема Корделии.
Эта сцена (самоубийство Глостера) была задумана и репетировалась как кульминация трагикомизма. Чтобы создать органические предпосылки для этого, мы решили заготовить два равноправных варианта шекспировской новеллы о самоубийстве: (1) серьезный — с трагическим осмыслением событий пьесы и (2) комедийный, реализующий буффонадное, клоунское отношение к происходящему. С одинаковым увлечением делали мы этюды к обоим вариантам. В одной импровизации плакали над несчастным отцом вместе с обездоленным им сыном, в другой — потешались и измывались над глупым стариком, затеявшим никому не нужный, абсурдный подвиг самонаказания. В одних пробах поражались глубине шекспировского человековедения, в других бывали потрясены бесконечной емкостью шекспировских текстов, свободно допускавших (и, казалось, даже предполагавших!) интерпретацию сцены самоубийства в качестве клоунской цирковой репризы. В первом случае — штудировали классику шекспироведения (Козинцев, Бредли, Уилсон Найт, сэр Грэнвилл-Баркер), во втором — зачитывались перед репетицией модерновым абсурдизмом Яна Котта. Особенно удавались репетиции буфонного варианта непосредственно вслед за трагическим и наоборот — трагедия лучше всего репетировалась "на фоне" комедии: все воспринималось остро, свежо, волнующе. Тут ловили, как теперь говорят, "полный кайф".
|
|
|
Оба варианта трактовки разрабатывались нами для того, чтобы потом, на спектакле, когда придут зрители, соединить их вместе, перемешать, перетасовать, как две пасьянсных колоды. Самой пикантной (и самой опасной) подробностью в этой истории было
¶мое заявление о том, что решающим условием в затеваемой нами игре переходов из варианта в вариант, из жанра в жанр будут желания (порывы, настроения, ощущения нюансов и случайностей идущего спектакля), которые возникнут по ходу дела у исполнителей-актеров.
Юра Иванов с удовольствием прикидывал и пробовал комедийный вариант, но предпочитал трагический. Уже на генеральной репетиции в его работе почти не было переключений в юмор и насмешку. Было видно, что его тянет в драму все сильнее и сильнее. Он посматривал на меня виновато, но делал свое. Я повторил: что захочется, то и будете играть, куда потянет, туда и пойдете, — никакого насилия над собой. Юра улыбнулся мне, и я понял, что он будет играть завтра; конечно же, милую своему сердцу дррраму. Ну и пусть. Во-первых, делал он это очень хорошо, по высшему классу, во-вторых, я ведь сказал свое слово, а слово я держал всегда, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, а, в-третьих, спектакль уже начал проявлять свою самостоятельность, пошел в эту сторону, значит, так лучше для него, ну и пусть идет; на здоровье.
Так было и на спектакле. Ничего смешного в этой сцене не осталось, драматизм победил в Юре. Более того, Юра подчинил и партнера — добросовестнейшего Борю Саламчева, очередного Эдгара. Боря был человек деликатный, он побоялся помешать "папочке" и перешел в его тональность. Эпидемия распространилась и на "англичан" (попытавшись острить и шутить в самом начале, они быстро капитулировали — замолкли) и на зрителей советских (в зале тоже воцарилась чуткая тишина, та, про которую говорят "слышно как муха пролетит", хотя в принципе мух не было и не могло быть — не то время года). Я тоже не расстроился и не жалел ни о чем. Разве может жалеть режиссер о чем-нибудь, когда артист хорошо играет (пусть даже играет он не то, что хотелось бы режиссеру!). Разве может педагог о чем-нибудь жалеть, когда спектакль его учеников течет свободно, выполняя не заданный рисунок, а общую нашу волю.
|
|
|
Я ведь не случайно, разговаривая со своими учениками, все время выделял и подчеркивал нашу условленность насчет правды, как главного требования к артистам: делайте только по правде, в самом деле, без притворства и насилия над собой, не думая, получится или не получится. Раньше я требовал от вас — договаривайтесь о "распределении ролей" по правде; потом просил — договаривайтесь о лучшем "оформлении" той или иной сцены, как о действительно лучшем, о том оформлении, которое будет признано лучшим в данный момент всеми вами. И в сцене самоубийства Глостера вы должны реагировать только так, как хочется в данный момент, и в зависимости от того, как Юра и Боря в этот раз играют, то есть: хотите издеваться над их игрой — издевайтесь, свистите, топочите ногами; или, если в самом деле нравится, одобряйте и ободряйте, заставляйте замолчать тех, кто мешает и т. д. и т. п. Но только по правде. Особенно не сфальшивьте в бунте: в переходе к нему и в степени озверения в нем; только так, как почувствуете в самом деле. А если не почувствуете — не орите и не бунтуйте. Спектакль, говорил я им, может кончиться и так и эдак, это в конце концов все равно, главное, чтобы по правде, без липы — это и будет смысл спектакля, это и будут смотреть зрители. Смотреть и радоваться. Но если фальшь, то это никому не нужно — ни им, ни нам.
|
|
|
Она вышла на сцену во всеоружии женского обаяния. Чуть покачиваясь на ходу от высоких каблуков, в дурацком веночке из бутафорских цветов, длинная, стройная, с красивым, чуть сумасшедшим лицом. И, играя подведенными глазами, грудным зазыв-
¶ 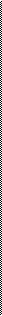 ным голосом кокетливо произнесла первую фразу старого Лира: "Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это мое право. Я ведь сам король".
ным голосом кокетливо произнесла первую фразу старого Лира: "Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это мое право. Я ведь сам король".
Ничего более нелепого и неуместного нельзя было себе представить, и скромный Эдгар чуть не прыснул, еле сдержался. По ряду английских зрителей, устало сидевших на сцене вдоль задней стены, тоже провеял скептический ветерок насмешки. Молодая женщина вздрогнула. Глаза ее сверкнули возмущением и увлажнились: она была горда и самолюбива, она хотела сьпрать Лира очень хорошо, лучше всех, и от этого все время стреляла мимо. Подбежав к Глостеру, она приняла царственную позу и со злобной повелительностью прошипела: "Говори пароль".
Молодой поводырь слепого графа снисходительно сострил, уступая даме: "Душистый майоран". У стенки снова засмеялись.
Дело было, вероятно, в том, что Эдгар видел перед собой интересную женщину и поэтому никак не мог отнестись к ней как к старому королю Британии.
Глостер же был слеп, он ничего не видел. Голос короля он услышал и узнал по властности. Поклонился.
Добрый шаг партнера навстречу сотворил с актрисой чудо: она встрепенулась, воспрянула духом и соединила в одном монологе краски всех тех, кто играл Лира до нее. В этом бредовом монологе рычало бешенство власти и стенало возмущенное непонимание, печалилась усталая мудрость и вибрировало, угасая, жалкое безумие:
Они ласкали меня, как собачку, и врали, что умен не по годам. Они на все мне отвечали "да" и "нет". Все время "да" и "нет" — это тоже мало радости. А вот когда меня промочило до костей, когда у меня от холода не попадал зуб на зуб, когда гром не смолкал, сколько я его ни упрашивал, тогда я увидел их истинную сущность, тогда я их раскусил.
Три формы или три степени трагикомедии:
— трагизм, окруженный шутовством, трагическое в кольце, в оправе комического (пример — сцена бури);
— трагизм, перемешанный с комизмом, меланж трагического и шутовского (пример — шутовское ослепление);
— и, наконец, трагизм, превращающийся в шутовство, желающий или вынужденный стать комизмом, кривляющийся, юродствующий трагизм (пример — описываемая сцена).
Мужество откровенности и женственная хитрость маски были сплавлены в игре актрисы настолько прочно, что разделить их или выделить в чистом виде что-нибудь одно было невозможно, и чем дальше, тем больше укреплялась в вашем мозгу странная мысль, что в этом Лире живет Корделия. Мы видели некоторые черты Лира в Корделии при самом начале спектакля, теперь, приближаясь к его концу, мы видим Корделию в Лире. Может быть, тут и нет никакой диалектической мистики, а просто думается так оттого, что Лира играет женщина, потенциальная Корделия, и она, не сыграв британскую принцессу, доигрывает ее здесь. Может быть, и все же, все же...
|
|
|
¶...Она спохватилась и спряталась за маску старческой характерности: оперлась на палку, отнятую у Глостера, зашепелявила и перешла на прозу, но от волнения переборщила — Лир получился очень-очень старым, таким старым, что пол перестал иметь значение, перестал звучать В ней; стало без разницы, глубокий ли это старик или глубокая, столетняя старуха, почти ведьма: "Чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой? Сейчас я тебе покажу фокус. Я все перемешаю. Раз, два, три! Угадай теперь, где вор, где судья". Это было не туда, но производило впечатление — мастерство характерности покоряло.
Но вот снова, как грозная весна, наступили стихи, и она отбросила нищенские лохмотья характерности и правдоподобия — вместе с раздражавшим ее веночком. Перед зрителями стояла разгневанная и возмущенная женщина в расцвете сил:
Ты уличную женщину плетьми
Зачем сечешь, подлец, заплечный мастер?
Ты б лучше сам хлестал себя кнутом
За то, что втайне хочешь согрешить с ней.
Слова Шекспира стали ее собственными словами, она кидала их уже не только Глостеру с сыном, но и всем англичанам, стараясь завести их, поднять с пола: "Виновных нет, поверь, виновных нет:
Никто не совершает преступлений.
Берусь тебе любого оправдать,
Затем, что вправе рот зажать любому,
и некоторые из англичан вскакивали на ноги, одобрительно свистели и выкрикивали обрывки ее фраз, а она выбежала на авансцену и заговорила со всеми, кто присутствовал в английском большом сарае, превращая шекспировские стихи в лозунги, переводя их из эпического разряда в повелительный — кричите, жалуйтесь, требуйте! Англичане, почти все, вскочили на ноги. Двое или трое из них подбежали к женщине, а она по-дирижерски взмахнула руками и выбросила их в стороны и вверх. Теперь это была "свобода на баррикадах". Нет, лучше так: это была другая картина — Ванесса Редгрейв или Джейн Фонда над демонстрацией протеста. Она призывала: "Вот мысль!
Ста коням в войлок замотать копыта,
И — на зятьев! Врасплох! И резать, бить
Без сожаленья! Бить без сожаленья!"
Англичане зашумели и начали громить сцену: срывали занавесы и плотные оконные шторы, распахивали настежь окна, переворачивали декорации по углам. Кто-то разбил фонарь, замигал свет. И они пошли.
Они шли на зал стеною. Оголтело, угрожающе. Горели глаза. Надрывались охрипшие глотки. Нарастал скандеж: "Ре-зать-бить! Без-со-жаленья! Ре-зать-бить! Без-со-жаленья!"
Казалось, они, эти сердитые, нет, не сердитые, а просто взбесившиеся молодые люди сейчас спустятся в зал и начнут крушить и раздирать руками все, что им попадется на пути, как только что они разгромили сцену...
Но тут между ними и нами возник инициатор. Он был изящнее, чем когда бы то ни было. В руках у него была книжка.
Он мгновенно остановил, заставил ораву буквально замереть на ходу, и на фоне тяжелого дыхания возбужденных людей прочел по книге — легко, игриво, почти ласково:
¶И резать, бить
Без сожаленья! Бить без сожаленья!
Я, мол, извиняюсь, но тут так написано. И мы не причем. Так у Шекспира и так в жизни. И ничего не поделаешь. Это было извинение без оправдания, без пощады, без жалости — только холодная вежливость и корректность. Он развел руками, в одной руке бьша заложенная пальцем книга, затем поднес книгу к глазам и перечел, стирая со своего голоса все краски и тембры, оставляя одну лишь констатацию факта:
И разать, бить
Без сожаленья! Бить без сожаленья!
Захлопнул книжку и показал обложку:
— Уильям Шекспир. "Король Лир".
И в зале наступила полная тишина. Может быть, тишина наступила во всей огромной Москве. А, может быть, и во всем мире.
Это была та усталая тишина, которая наступает после шумных и безобразных праздников, после изнуряющего и обессиливающего веселья. Тишина после боя. Тишина после атомной войны.
Спектакль кончился, а зрители молчали. Их поведение было на этот раз таким же странным, как и сам этот нелепый комикс шекспировской трагедии. Зрители не аплодировали, но и не уходили. Одни так и остались сидеть на своих местах, другие поднялись было уходить, но почему-то остановились в недоумении. Медленно, исподтишка переглядывались. В глазах — почти у каждого — чередовались, перемешивались противоречивые чувства: благодарность артистам и презрительное неприятие, почти ненависть. Благодарность за радость откровения и ненависть за боль этого откровения. "Так ведь нельзя играть!" — "А, может быть, можно?"
Пока они молчали, в пространстве зрительного зала возникало что-то. Почти с физической ощутимостью. Как на снимке, сделанном в туманной камере Вильсона, проявлялась, вырисовывалась все явственней тревожная траектория спектакля:
от беспорядочного человеческого кишения —
к постепенному объединению
сначала в общем ожидании,
затем в общем желании немедленного творчества,
внезапного и спонтанного, как бунт;
от глумления, отрицающего эту навязшую в зубах "вашу" классику, —
через потрясающее открытие в Шекспире
самого своего и самого сегодняшнего,
через странствования вместе с ним
по вершинам и пропастям человеческого духа —
к отрицанию бесчеловечности этого мира
и к передаче эстафеты в зрительный зал.
Потом зрители очнулись и захлопали, но как-то вяло, нерешительно, будто сомневались, можно ли аплодировать за такое... Чуть позже, уходя на обсуждение, я видел, как зрители-студенты подходили к моим артистам и долго благодарили их — негромко, без рукопожатий, без похлопываний по плечу, словно прикосновения были невозможны, как при разговоре землян с инопланетянами: традиционная школа благодарила какую-то
¶другую актерскую школу, непривычную и цпасную, как СПИД, но такую же заразную и интригующую*.
* * *
"Какая-то другая школа" — это и была игровая школа.
Потому я и рассказывал вам о незначительном на первый взгляд студенческом спектакле столь подробно, со всеми деталями и окерами, что "Король Лир" для меня очень важен.
Мне давно хотелось найти такую предельно емкую театральную структуру, которая была бы способна включать в себя и интегрировать все многочисленные тенденции и проявления современной сцены. И мне повезло, я наткнулся на концепцию игрового театра. Концепция не новая, но, как мне кажется, чрезвычайно актуальная. Существуя столько же времени, сколько существует театр, она то отходит на периферию внимания, то подпльшает к центру, то уходит вглубь, а то всплывает на поверхность. Ньше по всем признакам наступает ее очередной звездный час.
Признаков много, но вот главный: наш XX век не на шутку увлекся игрой. Играет или следит за играми все человечество. Простые люди развлекаются и даже гибнут во имя игры на стадионах, а высоколобые исследователи в тиши кабинетов разрабатывают для нее научные теории. В одних теориях утверждается полезность игры (играя, самец привлекает самку; играя ребенок учится жить и работать; игра есть социальный клапан, выпускающий излишнее напряжение масс и т. д. и т. п.). В других теориях изучается совсем другое — ее бесполезность. Чего только не придумали про игру теоретики! Она, мол, сочетание конформного поведения с неконформизмом мышления; она — школа социальной двусмысленности: учит притворству и направляет момент истины; создавая строгие правила для игроков, она возбуждает в них желание обойти эти правила; отдавая игрока в полную власть случая и удачи, игра вырабатывает в нем азарт и волю к победе; она — таинство и одновременно выставление напоказ. Игра головокружительна, соревновательна, вызывающа, пугающа и радостна, импровизационна и рассчетлива, экстатична и трезва. Интерес к проблемам игры неуклонно возрастал, и с середины XX века приступили к практическому применению игровых теорий и методик. Заиграли все: инженеры, математики, социологи, литературоведы, педагоги, спекулянты и политики. Игра со страшной силой начала делиться и почковаться. Появились деловые и административные игры, угрожающе участились игры военные, тихо, под шумок рас-
Теперь вы можете, если, конечно, захотите, перечесть еще раз описание студенческого спектакля в таком порядке: сначала только нормальный шрифт, потом — только мелкий и очень крупный. В первом случае вы получите связное описание спектакля, а во втором — рассказ на тему "чего стоит артистам импровизационная легкость этого опуса".
Перечтя еще раз написанное, я подумал, что можно уточнить название нашего спектакля: "Уморительная история о десяти лирах и одном слепом старичке".
Мне очень жаль, что наш любопытный спектакль смогло посмотреть так мало людей. Он, как и все другие спектакли без исключения, канул в реку забвения и исчез в ней безвозвратно. Любовь к нему придала мне смелость в безнадежной попытке остановить мгновения театра, показавшееся мне прекрасным, зафиксировать неповторимый миг хотя бы в виде бледной тени, в виде "слов на оконном стекле". Описывая нашего "Лира", я тщился дать вам, дорогие мои друзья, хоть какую-то возможность увидеть его, услышать и пережить. Если не очень удалось, извините.
¶плодилось игровое обучение иностранным языкам, шры в ЗАГСах и клубах "Кому за тридцать". Включились даже врачи: в психиатричках с помощью игры принялись они лечить своих хмурых пациентов.^ Начинало казаться, что сама жизнь угрожает превратиться в веселую забаву. В пору было запеть вслед за популярным оперным героем: "Что наша жизнь? — Игра!" Да что там Германн — в каждой квартире из голубых ящиков орал по вечерам кот Бонифаций: "Надо жить играючи..."
В одно лить место игра так и не смогла проникнуть — в театр.
Парадокс века: актеров не интересуют игровые подходы к делу.
(апарт) Не знаю, любите ли вы парадоксы, дорогой читатель, не знаю, потому что мы с вами пока еще недостаточно знакомы. Конечно, все у нас впереди, конечно, в процессе чтения и писания этой книги мы с вами непременно сойдемся поближе — вы узнаете получше меня, я пойму кое-что про вас, — тогда выяснится, являетесь ли вы поклонником парадокса или его врагом, но, предлагая вам парадоксальный факт впервые, я надеюсь на вашу снисходительность, даже если вы считаете парадоксальную манеру изложения претенциозной и несолидной.
Объективный факт: не играют только там, где это положено, само собой разумеется, там, где это обязаны делать в первую очередь, — не играют только в театрах и в театральных учебных заведениях (там, где учат будущих актеров и режиссеров!). Здесь игры боятся. Здесь игровые модели обучения превращены в жупел. Вот он парадокс игрового поветрия.
Игра — это независимость театра, и он ее лишен по собственной воле.
Почему? — Давила серьезность, обременяло сознание государственной важности своей профессии. Усиленно заботились об идейности, о воспитательной роли театра, об его общественных функциях, о юбилейных датах красного календаря, об угождении большим и малым начальникам, о выполнении плана. До остального руки уже не доходили. Для остального — для игровой и веселой суги театра — не хватало сил. Образность мышления и выражения — эта живая вода театра — была изъята из компетенции актера, формализована, отдана на откуп постановщикам-худрукам, облеченным ответственностью и властью. К издержкам циркулярного, департаментского функционирования присоединились издержки режиссерского этапа развития нашего театра: деспотизм режиссуры приучил нас видеть спектакль только "заклепанным наглухо" в точный рисунок (как в мундир!), и поэтому нам уже трудно представить другой театр, театр-протей, театр живой, рождающийся и меняющийся на глазах у зрителя, — тут, "сегодня, сейчас".
Серьезность убивала театр, она порождала унылость, душевный холодок, лишала его радости и бодрости, столь необходимых сегодня, — она превращала его в мертвый театр.
Театру нужна серьезность, но другая — естественная, органически возникающая, ненасильственная, не навязанная извне. Главным аргументом в борьбе с внешней серьезностью теперешнего театра является серьезность самой игры (независимо от формы).
|
|
|


