 |
В. Шевченко Галина Борисовна Башкирова Лилиана Сергеевна Розанова Натан Яковлевич Эйдельман Александр Израилевич Шаров Даниил Александрович Гранин Даниил Семенович Данин Аркадий Бейнусович Мигдал Раиса Львовна Берг
|
|
|
|
В. Шевченко Галина Борисовна Башкирова Лилиана Сергеевна Розанова Натан Яковлевич Эйдельман Александр Израилевич Шаров Даниил Александрович Гранин Даниил Семенович Данин Аркадий Бейнусович Мигдал Раиса Львовна Берг
Пути в незнаемое
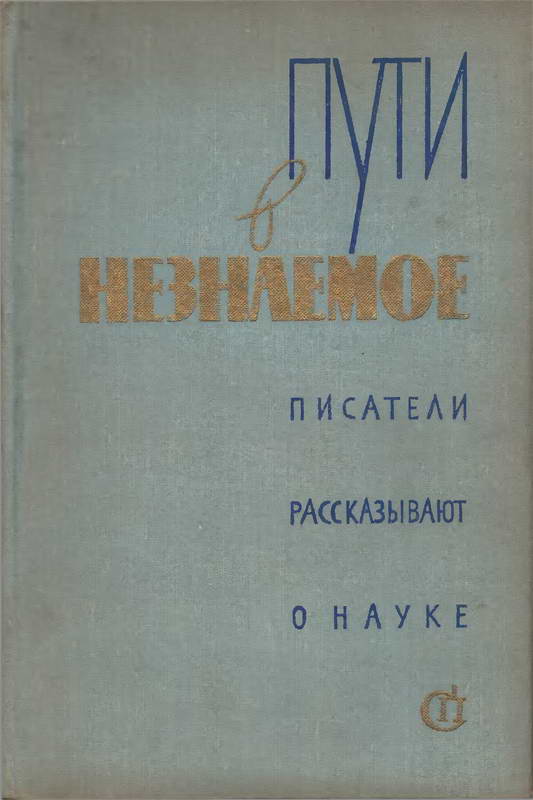
Пути в незнаемое
Писатели рассказывают о науке
Сборник девятый

Редакционная коллегия:
Б. Н. Агапов, А. З. Анфиногенов, Г. Б. Башкирова, В. Д. Берестов, Ю. Г. Вебер, Д. С. Данин, Н. Н. Михайлов, Л. Э. Разгон, А. И. Смирнов‑ Черкезов, В. А. Сытин, А. И. Шаров.
I
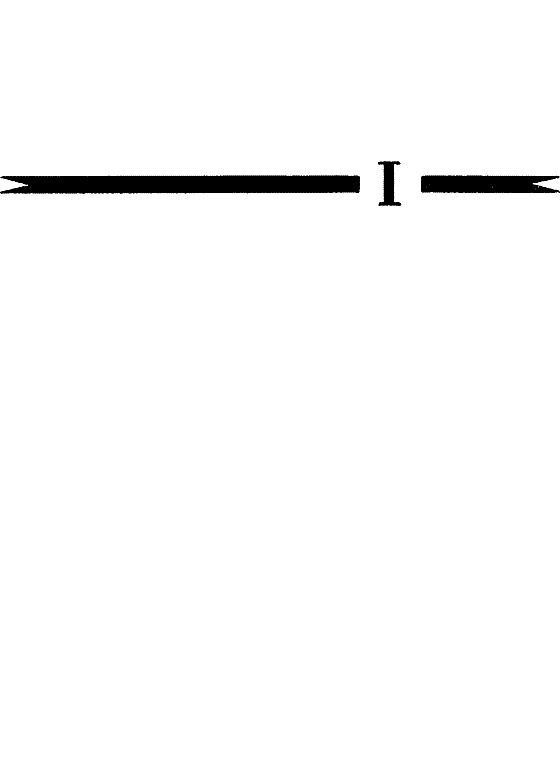

В. Шевченко
Самосознание науки
Мудрость состоит в пристальном наблюдении за тем, как растут люди.
Конфуций
Устами младенца…
Кто из нас и состоянии восстановить в памяти первые месяцы своей жизни на этой земле? Все распластано в одной плоскости, нет ни «верха», ни «низа», ни «левого», ни «правого». Каким образом этот первоначально сплошной мир разделяется на такие «вещи», как мама и папа, соска и солнце? Как они различаются и узнаются?
К несчастью для кибернетики, этого невозможно ни вспомнить, ни вообразить, ни даже понять. К несчастью – потому, что в растущем человеке природа демонстрирует нам стремительно развивающийся, самоорганизующийся автомат – совершеннейший образец для моделей обучения и распознавания.
Но можно дать человеку четырех лет карандаш и попросить его нарисовать, положим, квадрат. Скорее всего вы не сумеете отличить этот квадрат от круга. Но если убедить ребенка «постараться», он дополнит замкнутую кривую четырьмя черточками, призванными обозначать углы. Тот мир, в котором ребенок живет и который он спроектирует для нас на бумагу, будет отвечать натуре лишь в одном, но, оказывается, очень важном отношении: он точно отражает те фундаментальные свойства физического мира, которые в XX веке стали называть «топологическими».
|
|
|
Современная математика делит все метаморфозы, случающиеся в природе, на несколько групп преобразований. Такой подход очень прост и полезен, и поэтому стоит на нем немного задержаться.
В мире нет ничего, кроме движущихся вещей. Но их слишком много, и все они – слишком разные. А потому в науке часто удобнее иметь дело не с вещами, а с их свойствами. Каждую вещь мы представляем набором свойств, а далее – смотрим, что происходит с ними в движущемся мире. Одни свойства исчезают, другие – пока вещь остается «сама собой» – сохраняются. Их‑ то и называют инвариантами – «неизменными» – соответствующих преобразований.
Самое «слабое» из преобразований, которому может быть подвергнута вещь в нашем мире, – это простое перемещение. Самое «сильное» – непрерывная деформация: изгиб, растяжение, скручивание. Инварианты первой группы преобразований называют метрическими , а второй – топологическими. Между ними размещают все остальные: конформные, афинные, проекционные. От метрического к топологическому полюсу этого ряда падает роль количества и возрастает значение порядка.
К метрическим свойствам вещей (и самого пространства) относятся длина, прямолинейность и величина углов. Вещи, окружающие нас в быту, настолько прочны, что эти свойства легко сохраняются. Поэтому, для внесения в такое пространство «меры» достаточно простой линейки.
Тот, кто увлекается фотографией, имеет дело с проекционными свойствами мира. Прямолинейность еще сохраняется, но длина и углы уже приносятся в жертву той легкости обращения с действительностью, которую дает отпечаток.
А вот «ряд волшебных изменений милого лица» – это уже ряд топологических преобразований. Толковать здесь о величине углов, кривизне, площадях бесполезно. Можно только потребовать, чтобы в «окрестностях» любой точки этого объекта сохранялся один и тот же порядок. Изменяющееся, но узнаваемое лицо – вот типичный топологический инвариант.
|
|
|
Разумеется, породили топологию потребности не физиогномики, а математики и физики. Необходимость понять такие свойства микро‑ и мегаобъектов, которые вообще невыразимы в количестве (метрически). В глубинах нашего мира происходят превращения настолько странные, что и не расскажешь о них иначе, чем в терминах: «замкнутость», «близость», «связность».
На поверхность нашего обыденного опыта они выходят удивительными свойствами таких фигур, как, скажем, лента Мёбиуса. Это обычная плоская лента, концы которой перед склеиванием поворачивают на 180 градусов. Но достаточно произвести эти простые операции, чтобы получить объект, как будто специально предназначенный для математических фокусов.
Но попробуйте с помощью линейки зафиксировать отличие ленты Мёбиуса от кольца! Не помогут тут и проективные преобразования: и ленту, и кольцо всегда можно спроектировать так, что проекции будут неразличимы. Приходится вводить специальное понятие «ориентированности» и думать над тем, зачем ее выдумала природа. Ведь раньше оно считалось качественным, не подлежащим исследованию.
Длительное время казалось, что наука навсегда связала себя с поиском числа – измерением. Оказывается, это не так. В мире есть формы порядка, глубоко чуждые числовому; и все же они доступны точному анализу – это доказывает топология. И они важнее числового. В частности, потому, что вопрос «как понять? » здесь уже не подменишь привычным «как измерить? ».
«Я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя властелином бесконечного пространства… – признавался принц Датский. – Если бы мне не снились дурные сны». Но беспокойные сны нетрудно перенести. А вот когда, по слову того же Гамлета, «рвется связь времен» – это уже трагедия.
И принц прав. Если бы вселенная сжалась до размеров грецкого ореха или ускорила все свои процессы в произвольное число раз, то никакими измерениями этого не удалось бы обнаружить. Оставалось бы положиться разве что на свои сны.
|
|
|
Но допустим, что где‑ то в пространственных или временных связях нашего мира нарушилось топологическое свойство непрерывности: в окрестностях «здесь» или «теперь» затаились разрывы. Тогда такие путешествия во времени, как появление в «Гамлете» Призрака на крепостной стене, вошли бы и дурную привычку. В пространстве тоже случались бы невероятные вещи, подобные, скажем, происшествию с гоголевским майором Ковалевым. Вообразите себе только ваше неудовольствие, когда, просыпаясь, вы обнаруживаете на месте носа в «окрестностях» щек совершенно гладкое место! Ясно, что мир, в котором призраки гуляют по стенам, а носы исчезают и возникают беспричинно, не заслуживает доверия.
Наивысшую степень инвариантности вещей, пространств, времен гарантирует нам топология. И потому мы вместе с принцем Датским и майором Ковалевым оцениваем топологический порядок выше, чем числовой.
Во всем множестве приключений, которые могут случиться с вещью в любом из миров, известных науке, наибольшую «выживаемость» обнаруживают топологические структуры. Они характеризуют объект с наиболее глубокой стороны и поэтому по праву считаются самыми фундаментальными. Да и логически они первичны: все теоремы, доказанные в топологической геометрии, автоматически справедливы и для проекционной и для евклидовой. Исторически же построение математики продвигалось от открытия и изучения метрических и – далее – проекционных структур к топологическим.
Однако простые опыты, которые вы можете провести с ребенком, обнаружат весьма странную вещь. Впрочем, эти опыты уже провел швейцарский психолог Жан Пиаже. И показал, что становление геометрических структур у ребенка полностью отвечает логическому строению математики и, напротив, противостоит ее историческому развитию.
Как только в каракулях ребенка начинает проглядывать какой‑ то смысл (3–4 года), он чутко реагирует именно на топологические признаки вещей. Например, он легко отделит замкнутую фигуру от открытой («замкнутость»), предмет с отверстием – от сплошного предмета («связность»). Но только через несколько лет он заметит различия между прямолинейными и криволинейными фигурами, то есть отреагирует на метрику пространства.
|
|
|
А что происходит в школах? Во всех странах мира геометрию начинают изучать приблизительно в 11 лет. Начинают сразу с измерений (метрической, евклидовой геометрии), а заканчивают основами топологии в университетах. Стихийно сложилось так, что фазы обучения повторяют исторический путь создания математики, но зато они вступают в противоречие с естественными способностями человека. Традиционное академическое обучение не только не извлекает никакой пользы из «самоорганизации» ребенка, но и тормозит ее.
Как ни важны эти результаты для школьной педагогики, значение их этим далеко не исчерпывается. Самый дальний замысел Пиаже – заинтересовать ими не математиков‑ учителей, а математиков‑ теоретиков. В самом деле, почему ребенок, чьими ошибками мы привыкли забавляться, удивительным образом ухитряется чувствовать в вещах самое главное – с математической и логической точек зрения? Почему «археология» мышления повторяет «архитектуру» математики?
Ведущий систематизатор современности Николай Бурбаки утверждает, что в основании грандиозного здания всей математики лежат три «великие материнские структуры»: алгебра, топология и порядок. Но то, что он делает исключительно из соображений логической завершенности, получает совершенно неожиданное обоснование в фактах детской психологии. Оказывается, ребенок тоже начинает свою сознательную жизнь с освоения этих структур. Другой факт: в представлении о пространстве – времени ребенку, как выяснилось в опытах Пиаже, легче усвоить исходную точку зрения Эйнштейна, чем Ньютона!
Не следует ли из всего этого, что ученым надо рекомендовать творческие командировки в ясли – на предмет извлечения из детского лепета великих законов природы? Если ребенок «чувствует» логику строения современной науки, то не получается ли, что человеку едва не с пеленок уже дана та полнота знания, которая науке стоила героических усилий? Быть может, достаточно покопаться в себе самом, чтобы вытащить все это на свет божий?
К этому как будто и приглашала религия. Развивая известное положение об истине, глаголемой устами младенца, она утверждала, что высшую правду бог скрыл от книжников и фарисеев, но открыл «немудрым».
Едва ли надо говорить, что факты, о которых шла речь, говорят во славу не младенца, а современной науки.
Детские формы «контакта» с миром отвечают простейшему, исходному строению интеллекта. Разумеется, ребенок ничего не знает о топологии и никогда сам по себе не узнает о ней. А вот отзываться на самые обобщенные и устойчивые формы закона, заложенного в вещах, он должен. Если язык топологии – новейшей науки – внятен ребенку, значит, математика подбирается сегодня к основам основ порядка, заложенного в природе.
|
|
|
Топология отражает порядок, одинаково характерный для любой ступени организации материи. Но если даже «дезорганизовать» материю, вывернуть ее до простейшего нутра – все равно останется некоторый минимум организованности. Он‑ то и будет топологическим, и он универсален и прост.
В топологии математика подошла к изучению качества вещей. Для своих специальных нужд она выработала понятия настолько универсальные, что по уровню своей общности они сближаются с философскими категориями.
Иронически и в то же время серьезно Марвин изобразил разбитое сердце, блуждающего коня, солнце, которое не светит, и луну, которая не восходит.
Шекли
Вспомним теперь про других «геометров» – про племя художников, из века в век призывающих видеть мир глазами ребенка.
Если бы в XIX веке математика спросили: что будет, если квадрат, нарисованный на бумаге, увеличить, скажем, в миллиард раз, он пожал бы плечами и сказал: «Да ничего…»
Но сегодня уже и школьник знает, что любая геометрическая фигура, если позволить ее размерам выйти за пределы земных масштабов, исказится. Как только мерой сторон квадрата станут космические расстояния, эти стороны выгнутся, углы перестанут быть прямыми. Словом, квадрат деформируется так, как предписано ему кодексом небесной геометрии Лобачевского (или Римана). Столь же неожиданным образом поведет себя квадрат и в микромире – сильные электромагнитные или гравитационные поля «размоют» его метрику.
Один из великих маэстро, умеющих и в старости «относиться ко вселенной так, будто ей не более суток от роду», – французский художник Анри Матисс как‑ то обмолвился, что если бы понадобилось увеличить формат полотна в 10 раз, то он не смог бы ограничиться простым увеличением всех его размеров. Пришлось бы, сказал он, изменять и пропорции.
Зачем? Не затем ли, что в своей художнической деятельности человек давно «отреагировал» на то тонкое, хотя и фундаментальное, отличие метрики пространства от его топологии, которое открыто естествознанием совсем недавно и до сих пор остается достоянием чистой теории?
Художник всегда чувствовал в вещах свойства более глубокие, чем только метрические или проекционные. Не потому ли он тысячелетиями деформирует образы вещей?
Геометрические формы где‑ то в глубинах нашей психики связаны со звуковыми, музыкальными. Вот, например, два одинаково бессмысленных и различных только по своему звучанию набора букв: «волюма» и «такете». Однако вы обязательно свяжете с первым звучанием восприятие плавной и округлой, а со вторым – изломанной и колючей геометрической формы. Точно так же «толстым» кажется низкий, а «тонким» – высокий звук.
Значит, средств у художника не так уж и мало. И одно из них – прямое и целенаправленное нарушение метрики. Метрическая безукоризненность нашего домашнего пространства явно избыточна. Ее трудно воспринять эстетически. Если сравнить технический снимок с художественным, то второй будет наверняка менее точным.
Современная физика утверждает, что мы живем в «кривом» мире, но занимаем в нем столь крохотный участок, что закономерности кривизны не успевают проявиться – их нельзя замерить. А почувствовать? Кто знает, где предел человеческой чувствительности к воздействию мира? Ведь ничего не ведая о вспышках на Солнце, человек отзывается на них «самочувствием».
«Измеряй все, что можно измерить! » – таково завещание Галилея. Мы честно измеряем, но только ли приборами? Не является ли и чувство одним из способов внесения меры в мир вещей?
Сравнительно недавно профессор П. В. Симонов выдвинул «информационную» теорию эмоций, согласно которой эмоции восполняют недостаток информации. Именно они позволяют человеку действовать правильно даже в условиях острого дефицита информации. Но что значит – восполнить? Недостаток пищи я могу восполнить чем‑ то съедобным. Недостаток знания можно возместить только знанием – пусть и «особого рода».
Допустим, человек смотрит на вечернее солнце. И пусть действие происходит тысячелетия назад. Ничто не говорит дикарю о том, что солнце удалено от него безмерно дальше, чем облака, за которые оно садится. Но в самом ли деле – ничто? Случайна ли та совершенно уникальная роль, которая отведена солнцу мифологией любого из народов? Солнце было явлением исключительным, странным, поражающим. И психологически оно было удалено от облака так, как равнодушие отдалено от восторга и ужаса.
Когда говорят о «дыхании космоса» в полотне, «микрокосме» стиха или о «космической гармонии», явленной в музыке, – нет ли в этих затасканных словах правды большей, чем сомнительная правда метафоры?
Допустим, что художник и впрямь задался целью внушить нам некое «чувство космоса» или «чувство целого» и не располагает для этого ничем, кроме «образа» треугольника и иных геометрических фигур. Тогда он обязан исказить их так, как искажает их космос.
Впрочем, все может происходить проще, без вмешательства космоса. Вещь искажается в сильных, но мертвых электромагнитных полях. Так почему же не исказиться «образу» вещи, внесенному в поле человеческих страстей и интересов? Если художник может превратить в настоящее «открытие» яблоки, рассыпанные на полотне, то пространство, в котором эти яблоки «организованы», обязано обладать нетривиальной метрикой.
Быть может, на художника действует та же сила, которая обязывает физика‑ экспериментатора жертвовать точностью определения координаты при точном измерении импульса. Быть может, то, что в космосе мы называем «дефектом треугольника», в мире сверхвысоких скоростей – «дефектом массы», а в формальных системах – «противоречивостью», в искусстве становится «деформацией материала». Если оно «наполняет» изображение вещи чувством (как искажение пространства – времени наполняет его тяготением), то нет ничего странного в той энергии, которую несут в себе великие полотна.
Мы можем знать, а можем и не знать законов космоса, но нам никуда не уйти от их действия. Мы рождаемся в расширяющейся вселенной, где взрываются галактики, улыбаются сфинксы, но мы же заключены в четырех маленьких стенах, которые тем сильнее экранируют нас от «наводок» Большого мира, чем они уютнее. Искусство распахивает эти стены, а мы тревожимся за нарушенную метрику.
Быть может, когда‑ нибудь пересчитают и классифицируют такие события, как улыбка или горечь, или те группы преобразований, которым подвергается мир в искусстве, и приблизятся к пониманию мирового порядка, к которому чуток художник. И станет ясно, зачем он изобретает свою геометрию, не довольствуясь существующей.
Н. Стинрод, один из крупнейших специалистов по топологии, определил тополога как человека, который «не видит разницы между бубликом и кофейной чашкой» (топологически их тела эквивалентны). Перевернем определение: тополог – тот, кто умеет увидеть единство этих форм. Но разве не в том же достоинство и художника? Он чувствует, прослеживает и утверждает в метафоре то глубинное сродство вещей, которое не схватывается формулами.
Нильс Бор видел великое призвание искусства в том, чтобы напоминать о гармонии, недоступной для систематического анализа. Но всегда находились люди, которым мало гармонии, преподнесенной в терминах цвета и света. Они уверены, что в мире существуют только те события и только те виды гармонии, о которых можно рассказать.
Таким дотошным человеком был Сократ. Он долго ходил по разным художникам и все допытывался, что же они хотят сказать своими полотнами. В лучшем случае художники молча показывали на холст. В худшем… Впрочем, предоставим слово самому Сократу.
«Стыдно мне, афиняне, сказать вам правду, а сказать все‑ таки следует. Одним словом, чуть ли не все там присутствовавшие лучше могли бы объяснить творчество этих художников, чем они сами». Не ведают, что творят, – констатировал он. От него и пошел миф о «пастушеском интеллекте» поэтов.
Нынче отношение к искусству иное. Умение изъясняться на хорошем литературном языке сочли бы у художника скорое несчастьем, чем преимуществом. Зачем тебе кисть, если владеешь словом?
И все‑ таки рецидивы сократизма не прекратились и, видимо, никогда не прекратятся. Время от времени к художнику приступают и требуют: скажи наконец по‑ человечьи! Сегодня с этим требованием приступила к искусству кибернетика.
Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующим рыцарям представляются ненастоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку?
Сервантес
Уже на наших глазах появился еще один класс «младенцев» – кибернетические автоматы. Стремительно развивается очень нетрадиционная педагогика: кибернетическая теория обучения. Идея создания «машины‑ младенца» выдвинута еще Аланом Тьюрингом. Вот ее суть: вместо того чтобы создавать сложный автомат для каждой конкретной цели, проще разбить задачу на более простые и иметь стандартные машины с минимумом наследственности и максимумом приобретенного опыта. На первом этапе строится простая «программа‑ ребенок», на втором – она обучается до уровня взрослого «специалиста».
В системах, предназначенных для распознавания образов, на первом месте стоят вопросы обучения машин геометрии. Но самый беглый взгляд убеждает, что современные машины эволюционируют как‑ то не так. По крайней мере – в направлении, обратном развитию ребенка. Машины прекрасно ориентируются в метрических свойствах пространства, но совершенно равнодушны к его топологии. Можно растолковать им, что такое связность, замкнутость и другие топологические свойства, но сделать это гораздо труднее, чем обучить их измерениям.
Но, с другой стороны, кибернетика еще не нашла оснований считать поведение человека неоптимальным и по‑ прежнему ориентируется на него как на образец. (Сейчас, например, она готова даже к тому, чтобы наделить машины некоторыми из человеческих пороков. Считается, что если запрограммировать им чуть‑ чуть эгоизма, то немедленный выигрыш в гибкости и активности поведения с лихвой окупит некоторые неудобства морального плана. )
А «образец» в младенчестве любит лад и ряд, звук и цвет. «В начале жизни, – свидетельствует Корней Чуковский, – мы все – стихотворцы и лишь потом постепенно научаемся говорить прозой». Да и в начале истории – тоже. Наскальные фрески и пещерные флейты появились раньше, чем счет и письмо. Конечно, чем тяжелее дается проза, тем труднее потом оценить достоинства поэзии. Но это еще не доказывает, что историю разума действительно можно отделить от истории искусства.
Однако именно это и делает кибернетик, когда он учит машину «осреднять» образ. Он упорно учит машину прозе, надеясь когда‑ нибудь потом обучить ее и поэзии. Но поскольку поэзия оказывается «деформацией прозаического материала», то поэтические настроения обернутся в такой машине аварийными.
А ведь кибернетика в целом откровенно меркантильна. Обсуждение особенностей человеческих программ – даже таких, как ритм и алогизм в стихе, деформация в изображении, странность в поведении, – она автоматически переводит в плоскость вопроса о их целесообразности. В устройстве машины нет места лампам, относительно которых позволительно было бы спросить: «Послушайте, а зачем их зажигают? » Либо они оптимизируют поведение – и тогда имеют конструктивный смысл. Либо их нет.
Так в чем же конструктивный смысл деструкций? Почему художник нарушает порядок – тем охотнее, чем он жестче, – начиная от метрического и кончая топологическим? Как помогает это человеку справиться с той задачей самообучения, над оптимальным решением которой бьются теперь кибернетики?
Нарушает не только художник, но и человек, который его понимает, и государство, которое санкционирует их взаимопонимание. Мы строим вероятностные машины, а сами живем в невероятном мире. В этом мире существует закон, согласно которому былинный молодец, оказавшись на распутье между богатством, женитьбой и смертью, неизменно выбирает ту дороженьку, где «убиту быть».
Нарушая нормы, уже найденные, молодец доверяется «гармонии, недоступной для систематического анализа». Не ей ли принадлежат все дефекты масс, треугольников, скоростей, метров и логических систем? Они дефективны по отношению к уже готовому и закрепленному в нормах знанию. Но только в искусстве сигналы аварийного состояния оказываются нормой.
Кстати, «нормальным» оказалось как раз гиперболическое пространство. И не только в космосе, но и в самой обыденной жизни. Было время, когда «самоочевидность» евклидовых постулатов выводилась из особенностей восприятия. Позднее выяснилось, что интуиция сильно нас подвела, поскольку настоящая геометрия мира – неевклидова. И только недавно мы вернулись к исходному состоянию, открыв, что геометрия Лобачевского описывает не только реальный звездный мир, но и пространство нашего восприятия!
Психологи называют такое пространство «феноменальным». Это видимое и воображаемое пространство. Его структура определяется тем, как мы размещаем в нем образы вещей, оцениваем расстояния, углы, кривизну.
Немецкий психолог Р. К. Люнеберг, а вслед за ним и другие исследователи пришли к выводу, что структура феноменального пространства соответствует неевклидовой геометрии. Доказательства были получены в опытах по методике «аллеи». На уровне глаз испытуемых размещался уходящий вглубь ряд вертикальных палочек, горелок, ламп. Обнаружилось, что параллельная «аллея» воспринимается как искаженная и наоборот, причем характер этих искажений «нормален» только в геометрии Лобачевского. К этим результатам можно добавить совсем недавние и еще более неожиданные исследования специалиста по древнерусской живописи Л. Ф. Жегина. Они показали, что все деформации, обескураживающие зрителя в древней картине, легко объясняются в системе неевклидовой геометрии.
Впрочем, чего стоит один только тот факт, что все параллельные линии, которым по Евклиду пересекаться никак нельзя, – сходятся на нашем горизонте!
С этим «горизонтом» у науки очень сложные и еще не то конца выясненные отношения.
Все, что существует, существует в пространстве. Поэтому наши суждения о Большом мире – суждения по необходимости геометрические. Наше представление о вселенной изменяется вместе с развитием геометрии. Только осознав отличие метрики пространства от его топологии, мы смогли найти выход из древней дилеммы конечного, но безграничного пространства. Бесконечность – метрическое свойство, а безграничность – топологическое. Достаточно эти свойства отличать, чтобы понимать, как можно жить в конечном, но безграничном пространстве. Таково, например, пространство любой замкнутой поверхности – сферы, эллипсоида, тора.
Но в самой науке геометрии моделируется не только структура вселенной, но и точка зрения, психология наблюдателя. Для индейца бесконечность начиналась за ближайшей рекой, для славянина‑ язычника – в лесу. Граница не была топологически однородной: на чердаке ворчал на прохудившуюся крышу домовой, в омутах скучали русалки, и все это нужно было знать, чтобы прожить счастливо. Этот естественный горизонт – фактор уже не математический, а психический и даже – социальный.
Вы и ваш ребенок (или маленький брат) живете в мирах, соприкасающихся лишь частично. Они проникают друг в друга, но никогда не совмещаются. Вы смотрите на одну вещь, а говорите о разных. В самом деле, что общего между нашим солнцем и солнцем ребенка – большим как небо и светящим только потому, что оно желтое? Сон приходит к ребенку, как телевизор: можно пригласить маму посмотреть сон вместе.
Главные особенности того удивительного мира, в котором живет ребенок, вытекают из явления, которое Пиаже назвал «эгоцентризмом». Здесь эгоцентризм – еще не ругательное слово. Он так же естествен для ребенка, как, скажем, его малый рост. Однако именно он демонстрирует любопытную связь между психологией, геометрией и этикой.
Сначала ребенок вообще не умеет отделить себя от внешнего мира и играет с собственными ножками столь же самозабвенно, как и с погремушкой. Затем руки, ноги и все, что принадлежит ему, получает особый статус. Постепенно ребенок начинает чувствовать себя неким устойчивым центром, инвариантом всевозможных превращений. Вычленяется «я», начинаются неприятности: ребенок капризничает, кричит «я сам! » и пытается быть регулятором мирового процесса.
К концу третьего года он начинает проявлять повышенный интерес к своему изображению. Зеркальный инвариант доставляет ему явное удовлетворение. Иногда оно смешано с некоторым беспокойством, которое ребенок пытается разрешить, заглядывая за зеркало.
В исследовании И. Н. Бронникова 67 процентов всех самооценок в этом возрасте сводятся к ясной и искренней формуле: «Я лучше всех! »
Агрессивности в этом нет. Но и понимания других людей, как, впрочем, и себя, – тоже. Оно возникает не раньше, чем растущий человек научится понимать и принимать точку зрения другого. А вот этого‑ то ребенок и не может.
Долгое время он просто не способен учитывать другие точки зрения. Например, из того факта, что Петя – его брат, для него вовсе не следует, что сам он – брат Пети.
Ребенка и куклу сажали друг против друга; ставили между ними макет двух неравных по высоте гор и просили нарисовать, как видит эти горы кукла. Дети рисуют только то, что видят сами. Они охотно соглашаются перейти на сторону куклы, посмотреть на горы вместе с ней, но, возвратившись, рисуют то же самое.
Неспособность принять точку зрения другого эквивалентна отсутствию логики. А евклидова геометрия – это логическая система, причем система мира совершенно однородного, одинакового во всех своих точках и направлениях.
Эгоцентризм предполагает, прежде всего, неоднородность пространства. В нем с самого начала фигурирует особая, выделенная точка: начало отсчета. Пространство восприятия снаряжено «верхом» и «низом», «левым» и «правым». Кроме того, не все направления в нем равноценны (в физике такое пространство называют «анизотропным»).
«Верх» и «низ» ребенок схватывает быстро: с законом тяготения приходится считаться уже в простейших действиях. А вот «лево» и «право» осваиваются иногда только в ходе строевой подготовки.
Взрослым предлагалась такая нехитрая задачка: человек с Земли и марсианин с Марса смотрят друг на друга в телескопы. Вниз или вверх они смотрят? Быстрый ответ требует некоторого усилия – нужно отвлечься от собственной системы координат.
Геометрия феноменального пространства ставит ловушки не только ребенку, но и человечеству в целом. Возьмем, например, такой психологический факт, как данная каждому из нас уникальность своего «я». «Поэту, сенатору и сапожнику, – писал А. Франс, – одинаково трудно признать, что не он – конечная цель мироздания и венец всего сущего». Так уж устроен человек, что сколько он ни почитай Коперника, Дарвина или Винера, а воспринимать вещи он все равно будет так, будто помещен в геометрический, биологический, физический и какой угодно центр мироздания. Все звезды мира будут описывать орбиты в точности вокруг его головы.
Поэтому исходной моделью всех космогоний была сфера или, точнее, полусфера, поставленная на плоское основание. Далее модель разрабатывалась так, чтобы объяснить движение светил, назначение гроз, радуг и прочих волнующих фактов.
Эллин рождался и умирал «в пространстве, хором сфер объятом». Над головой христианина сиял литой свод с храмами вечно блаженных праведников, а где‑ то под его ногами – поближе к центру Земли – в геенне огненной скрежетали зубами нечестивые. Каждый мог легко в этом убедиться, заглянув в огнедышащий кратер вулкана.
Для греческих ученых – тонких геометров – гармонию космоса воплотила в себе идеальная сфера. Да и время в большинстве донаучных космологий мыслилось цикличным – привязанным к образу вращающегося мирового колеса. «Ничто не ново под Луной, – утверждали мудрецы взрывающейся вселенной. – Восходит Солнце и заходит Солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя».
Мышление космологов, геометров, астрономов упорно привязывалось к сфере и ее сечениям. Даже Галилею «чары закругленности» помешали принять законы Кеплера об эллиптичности планетных орбит. Великий новатор, как свидетельствует исследователь его творчества Э. Пановский, «не был в состоянии видеть в эллипсе что‑ либо иное, чем искажение окружности». Впрочем, и сейчас наше воображение одинаково неохотно следует за математической мыслью и в гиперболический, и в параболический мир. И все время стремится истолковать природу в рамках обыденного опыта.
Ребенок, ударившись о стену, немедленно наказывает ее. Ни ребенок, ни само человечество (по причине все того же эгоцентризма) никогда не страдали скромностью по отношению к природе. Казалось бы, что можно предпринять против затмения? А между тем почти у каждого народа существовала целая система средств, позволяющих им не только выражать вполне естественный протест против исчезновения светила, но и активно препятствовать этому. Даже римляне, помогая Луне, заглатываемой нечистым чудовищем, бросали в воздух зажженные факелы, трубили в трубы, ударяли в медные горшки и кастрюли. Удивительнее всего, что ритуалы помогали. Мрак рассеивался, светило сияло вновь, и можно было поздравить себя с еще одной победой над стихиями. А главное, была закономерность, связывающая освобождение Луны с определенной последовательностью действий.
Можно привести еще массу подобных примеров, убеждающих, что данные психологии и естествознания до сих пор лишь взаимно обескураживали друг друга. Так зачем же существует эгоцентризм – это досадное «я», только мешающее и отдельному человеку и человечеству в целом в их и без того трудном движении к истине?
Кибернетика и здесь сумела перевернуть всю проблематику. Задача, стоящая перед ней, парадоксальна – понять эгоцентрическое «я» не как досадную помеху, а как «фактор борьбы с энтропией в околосолнечном пространстве».
Так почему же Конфуций говорил о детской психологии как об «учебнике мудрости»? Не потому ли, что ее факты, если в них вглядеться, вдруг превращаются в увеличительное стекло, направленное на нас самих? Как странно видеть в многовековых скитаниях человеческой мысли простые ошибки, которые ежедневно демонстрирует нам ребенок!
Каждый ребенок – это маленькая домашняя энциклопедия и человеческих заблуждений, и уникальных форм самоорганизации, и ценностей, которые с незапамятных времен культивирует художник. Пределы той пользы, которую можно извлечь из простых наблюдений над ребенком, трудно пока установить.
Английский писатель Честертон настойчиво советовал внимательно вслушиваться в детский лепет. Быть может, надеялся он, это поможет нам «…терпимее относиться к трогательным попыткам лорд‑ канцлера и премьер‑ министра заговорить наконец по‑ человечьи».
Но науку, к сожалению или нет, делают взрослые.
|
|
|


