 |
В. Гейзенберг. А. Койре
|
|
|
|
В. Гейзенберг
 < …> Тут Эйнштейн оглядел меня несколько критическим взглядом. «Почему Вы, собственно, так упрямо верите в Вашу теорию, когда многие основополагающие вопросы еще совершенно неясны? » Кажется, я долго собирался с мыслями, прежде чем ответить на этот вопрос Эйнштейна. Однако затем сказал примерно следующее: «Я считаю, как и Вы, что простота природных законов носит объективный характер, что дело не только в экономии мышления. Когда сама природа подсказывает математические формы большой красоты и простоты, — под формами я подразумеваю здесь замкнутые системы основополагающих постулатов, аксиом и тому подобное, — формы, о существовании которых никто еще не подозревал, то поневоле начинаешь верить, что они «истинны», т. е. что они выражают реальные черты природы. Возможно, что в этих формах отразилось и наше отношение к природе, что в них есть и элемент экономии мысли. Но, поскольку человек не своими силами вырабатывает эти формы, а их нам открывает сама природа, они тоже относятся к самой действительности, а не только к нашим мыслям о действительности. Вы можете упрекнуть меня в том, что, говоря о простоте и красоте, я использую эстетический критерий истины. Однако должен признаться, что простота и красота математической схемы, подсказанной нам здесь природой, обладают для меня большой убеждающей силой. Ведь Вы тоже должны были пережить состояние, когда почти пугаешься от простоты и завершенной цельности закономерностей, которые природа вдруг развертывает перед нами и которые для нас полная неожиданность. Чувство, охватывающее при таком озарении, принципиально отличается от удовлетворения, которое бывает, например, от сознания отлично выполненной профессиональной работы, будь то в физике или в другой сфере. Вот почему я и надеюсь, что упоминавшиеся выше трудности как-то удастся преодолеть. Простота математической схемы имеет здесь следствием еще и то, что она дает возможность спроектировать много экспериментов, результат которых можно по теории предсказать с большой точностью. Если такие эксперименты будут проведены и дадут предсказанный результат, то уж едва ли надо будет сомневаться в том, что теория в этой области правильно описывает природу». Конечно, — заметил Эйнштейн, — экспериментальное подтверждение является тривиальной предпосылкой правильности теории. Но ведь никогда нельзя проверить все. Тем интереснее для меня то, что Вы сказали относительно простоты. Впрочем, я никогда не стал бы утверждать, будто я действительно понял, что такое на самом деле эта простота природных законов. Разговор о критериях истины в физике продолжался еще некоторое время, а потом я простился с Эйнштейном. < …>
< …> Тут Эйнштейн оглядел меня несколько критическим взглядом. «Почему Вы, собственно, так упрямо верите в Вашу теорию, когда многие основополагающие вопросы еще совершенно неясны? » Кажется, я долго собирался с мыслями, прежде чем ответить на этот вопрос Эйнштейна. Однако затем сказал примерно следующее: «Я считаю, как и Вы, что простота природных законов носит объективный характер, что дело не только в экономии мышления. Когда сама природа подсказывает математические формы большой красоты и простоты, — под формами я подразумеваю здесь замкнутые системы основополагающих постулатов, аксиом и тому подобное, — формы, о существовании которых никто еще не подозревал, то поневоле начинаешь верить, что они «истинны», т. е. что они выражают реальные черты природы. Возможно, что в этих формах отразилось и наше отношение к природе, что в них есть и элемент экономии мысли. Но, поскольку человек не своими силами вырабатывает эти формы, а их нам открывает сама природа, они тоже относятся к самой действительности, а не только к нашим мыслям о действительности. Вы можете упрекнуть меня в том, что, говоря о простоте и красоте, я использую эстетический критерий истины. Однако должен признаться, что простота и красота математической схемы, подсказанной нам здесь природой, обладают для меня большой убеждающей силой. Ведь Вы тоже должны были пережить состояние, когда почти пугаешься от простоты и завершенной цельности закономерностей, которые природа вдруг развертывает перед нами и которые для нас полная неожиданность. Чувство, охватывающее при таком озарении, принципиально отличается от удовлетворения, которое бывает, например, от сознания отлично выполненной профессиональной работы, будь то в физике или в другой сфере. Вот почему я и надеюсь, что упоминавшиеся выше трудности как-то удастся преодолеть. Простота математической схемы имеет здесь следствием еще и то, что она дает возможность спроектировать много экспериментов, результат которых можно по теории предсказать с большой точностью. Если такие эксперименты будут проведены и дадут предсказанный результат, то уж едва ли надо будет сомневаться в том, что теория в этой области правильно описывает природу». Конечно, — заметил Эйнштейн, — экспериментальное подтверждение является тривиальной предпосылкой правильности теории. Но ведь никогда нельзя проверить все. Тем интереснее для меня то, что Вы сказали относительно простоты. Впрочем, я никогда не стал бы утверждать, будто я действительно понял, что такое на самом деле эта простота природных законов. Разговор о критериях истины в физике продолжался еще некоторое время, а потом я простился с Эйнштейном. < …>
|
|
|
В. Гейзенберг. Часть и целое. Беседы вокруг атомной физики//
Избранные философские работы: Шаги за горизонт.
Часть и целое. – СПб.: Наука, 2005. - С. 344-345.
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте содержание эстетического критерия истины В. Гейзенберга. В чем причины его серьезной убеждающей силы?
А. Койре
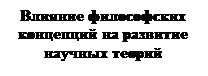
 Итак, история научной мысли учит нас (по крайней мере я попытаюсь это показать), что:
Итак, история научной мысли учит нас (по крайней мере я попытаюсь это показать), что:
а) научная мысль никогда не была полностью отделена от философской мысли; б) великие научные революции всегда определялись катастрофой или изменением философских концепций; в) научная мысль — речь идет о физических науках — развивалась не в вакууме; это развитие всегда происходило в рамках определенных идей, фундаментальных принципов, наделенных аксиоматической очевидностью, которые, как правило, считались принадлежащими собственно философии.
|
|
|
Разумеется, из этого отнюдь не следует, что я отвергаю значение открытия новых фактов, новой техники или, более того, наличия автономности или даже внутренней закономерности развития научной мысли. Но это уже другая история, говорить о которой сейчас не входит в мои намерения. Что касается вопроса о том, положительным или отрицательным было влияние философии на развитие научной мысли, то, откровенно говоря, этот вопрос либо не имеет большого смысла — ибо я только что со всей определенностью заявил, что наличие некоей философской обстановки или среды является необходимым условием существования самой науки, — либо обладает очень глубоким смыслом, ибо приводит нас вновь к проблеме прогресса — или декаданса — философской мысли как таковой.
Действительно, если мы ответим, что хорошие философии
оказывают положительное влияние, а плохие - менее положительное, то мы окажемся, так сказать, между Сциллой и Харибдой, ибо в таком случае надо обладать критерием «хорошей» философии... Если же, что вполне естественно, судить по конечному результату, то, как полагает Декарт, в этом случае мы оказываемся в ситуации порочного круга. < …>
 Научная революция XVII в., знаменующая собой рождение новой науки, имеет довольно сложную историю. < …> Я считаю, что ей присущи следующие характерные черты: а) развенчание Космоса, т. е. замена конечного и иерархически упорядоченного мира Аристотеля и средних веков бесконечной Вселенной, связанной в единое целое благодаря идентичности своих элементов и единообразию своих законов; б) геометризация пространства, т. е. замещение конкретного пространства (совокупности «мест») Аристотеля абстрактным пространством евклидовой геометрии, которое отныне рассматривается как реальное.
Научная революция XVII в., знаменующая собой рождение новой науки, имеет довольно сложную историю. < …> Я считаю, что ей присущи следующие характерные черты: а) развенчание Космоса, т. е. замена конечного и иерархически упорядоченного мира Аристотеля и средних веков бесконечной Вселенной, связанной в единое целое благодаря идентичности своих элементов и единообразию своих законов; б) геометризация пространства, т. е. замещение конкретного пространства (совокупности «мест») Аристотеля абстрактным пространством евклидовой геометрии, которое отныне рассматривается как реальное.
|
|
|
Можно было бы добавить - но это, по существу, лишь следствие только что сказанного - замещение концепции движения-состояния концепцией движения-процесса.
Космологические и физические концепции Аристотеля вызывают, вообще говоря, резко критические отзывы. Это, по-моему, объясняется главным образом тем, что: а) современная наука возникла в противовес аристотелевской науке и в борьбе с ней; б) в нашем сознании утвердились историческая традиция и ценностные критерии историков XVIII и XIX вв. Действительно, этим последним, для которых ньютоновские концепции были не только истинны, но также очевидны и естественны, сама идея конечного Космоса казалась смешной и абсурдной. Действительно, как только не насмехались над Аристотелем за то, что тот наделял мир определенными размерами; думал, что тела могут двигаться, даже если их не тянут или толкают внешние силы; верил, что круговое движение является особо значимым, и потому называл его естественным движением! < …>
Рождение новой науки совпадает с изменением - мутацией - философской установки, с обращением ценности, придаваемой теоретическому познанию в сравнении с чувственным опытом, совпадает с открытием позитивного характера понятия бесконечности. Поэтому представляется вполне приемлемым мнение, согласно которому инфинитизация Вселенной - «разрыв круга», как говорит Николсон, или «раскалывание сферы», как я сам предпочитаю это называть, - стала делом «чистого» философа Джордано Бруно и на основании научных - эмпирических - доводов резко оспаривалась Кеплером. < …>
Наоборот, как для Ньютона, так и для лучших его последователей действие на расстоянии через пустоту всегда было чем-то невозможным и, следовательно, недопустимым. Именно это убеждение, которое, как я только что указал, могло опираться на авторитет самого Ньютона, сознательно вдохновляло творчество Эйлера, Фарадея, Максвелла и, наконец, Эйнштейна. < …>
Итак, мне представляется правомерным сделать, хотя бы в первом приближении, два вывода из уроков, преподанных нам историей.
|
|
|
1. Позитивистский отказ — уступка — является лишь этапом временного отступления. И хотя человеческий разум в своем стремлении к знанию периодически отступает на эту позицию, он никогда не считает ее — по крайней мере до сих пор так было — решительной и окончательной. Рано или поздно он переставал ставить себе в заслугу эту ситуацию. Рано или поздно он возвращается к своей задаче и вновь устремляется на поиски бесполезного или невозможного решения проблем, которые объявляли лишенными всякого смысла, пытаясь найти причинное и реальное объяснение установленных и принятых им законов.

 2. Философская установка, которая в конечном счете оказывается правильной, — это не концепция позитивистского или прагматистского эмпиризма, а, наоборот, концепция математического реализма; короче говоря, не концепция Бэкона или Конта, а концепция Декарта, Галилея и Платона.
2. Философская установка, которая в конечном счете оказывается правильной, — это не концепция позитивистского или прагматистского эмпиризма, а, наоборот, концепция математического реализма; короче говоря, не концепция Бэкона или Конта, а концепция Декарта, Галилея и Платона.
Думаю, что, располагай я временем, я мог бы привести совершенно сходные примеры из других областей науки. Можно было бы, например, проследить за ходом развития термодинамики после Карно и Фурье (как известно, именно лекции Фурье вдохновили Огюста Конта на создание его системы) и увидеть, чем она стала в руках Максвелла, Больцмана и Гиббса, не забывая о реакции Дюгема, полное фиаско которой столь же показательно.
Мы могли бы проследить за эволюцией химии, которая, несмотря на — вполне «резонную» — оппозицию многих великих химиков, заменила закон кратных отношений лежащей в глубинной основе атомистической и структурной концепцией действительности и тем самым нашла истинное объяснение этого закона. Мы могли бы проанализировать историю периодической системы, которую недавно мой друг и коллега Г. Башляр представил нам в качестве образца «целостного плюрализма», и проследить, чем эта система стала в руках Резерфорда, Мосли и Нильса Бора. Или возьмем, к примеру, историю принципов сохранения, принципов, если угодно, метафизических, для подтверждения своей истинности требующих постулирования, время от времени, существования неких гипотетических объектов — например, нейтрино, — к моменту постулирования еще не наблюденных (или даже вообще ненаблюдаемых), с одной-единственной целью: сохранить в силе действенность этих принципов. Я думаю, что мы пришли бы к совершенно аналогичным выводам, если бы проанализировали историю научной революции нашего времени (мне кажется, что для этого уже открывается возможность).
 Вне всякого сомнения, именно философские размышления вдохновляли Эйнштейна в его творчестве, так что о нем, как и о Ньютоне, можно сказать, что он в такой же степени философ, в какой и физик. Совершенно ясно, что в основе его решительного и даже страстного отрицания абсолютного пространства, абсолютного времени и абсолютного движения (отрицания, в некотором смысле являющегося продолжением того, что Гюйгенс и Лейбниц некогда противопоставляли этим же понятиям) лежит некоторый метафизический принцип. Но это отнюдь не означает, что абсолюты как таковые полностью упразднены. В мире Эйнштейна и в эйнштейновской теории имеются абсолюты (которые мы скромно именуем инвариантами или константами и которые заставили бы содрогнуться от ужаса любого ньютонианца, услышь он о них), такие, например, как скорость света или полная энергия Вселенной, но только это абсолюты, не вытекающие непосредственно из самой природы вещей.
Вне всякого сомнения, именно философские размышления вдохновляли Эйнштейна в его творчестве, так что о нем, как и о Ньютоне, можно сказать, что он в такой же степени философ, в какой и физик. Совершенно ясно, что в основе его решительного и даже страстного отрицания абсолютного пространства, абсолютного времени и абсолютного движения (отрицания, в некотором смысле являющегося продолжением того, что Гюйгенс и Лейбниц некогда противопоставляли этим же понятиям) лежит некоторый метафизический принцип. Но это отнюдь не означает, что абсолюты как таковые полностью упразднены. В мире Эйнштейна и в эйнштейновской теории имеются абсолюты (которые мы скромно именуем инвариантами или константами и которые заставили бы содрогнуться от ужаса любого ньютонианца, услышь он о них), такие, например, как скорость света или полная энергия Вселенной, но только это абсолюты, не вытекающие непосредственно из самой природы вещей.
|
|
|
Зато абсолютное пространство и абсолютное время, принятые Ньютоном без колебаний (так как бог служил им основанием и опорой), представились Эйнштейну ничего не значащими фантомами совсем не потому — как иногда говорят, — что они не ориентированы на человека (интерпретация в духе Канта представляется мне столь же ложной, сколь и позитивистская), а потому, что они суть не что иное, как некие пустые вместилища, безо всякой связи с тем, что содержится внутри. Для Эйнштейна, как и для Аристотеля, время и пространство находятся во Вселенной, а не Вселенная «находится во» времени и пространстве. Поскольку не существует непосредственного физического действия на расстоянии (как не существует и бога, способного заменить это отсутствие), то время связано с пространством и движение оказывает воздействие на движущиеся тела. Но теперь уже ни бог, ни человек не выступают в качестве меры всех вещей как таковых: такой мерой отныне становится сама природа.
Вот почему теория относительности — столь неудачно названная — поистине утверждает абсолютную значимость законов природы, которые должны формулироваться таким образом, чтобы быть познаваемыми и верными для всякого познающего субъекта, — субъекта, разумеется, конечного и имманентного миру, а не трансцендентного субъекта, каким является ньютоновский бог. К сожалению, у меня нет возможности развить здесь некоторые из сделанных в отношении Эйнштейна замечаний. Но все же я считаю, что сказанного достаточно, чтобы показать абсолютную неадекватность распространенной позитивистской интерпретации его творчества и заставить почувствовать глубокий смысл его решительной оппозиции индетерминизму квантовой физики. И речь здесь идет отнюдь не о каких-то личных предпочтениях или привычках мышления: налицо противостоящие друг другу философии. Вот почему сегодня, как и во времена Декарта, книга физики открывается философским трактатом. Ибо философия — быть может, и не та, которой обучают ныне на философских факультетах, но так же было во времена Галилея и Декарта, — вновь становится корнем дерева, стволом которого является физика, а плодом — механика.
Койре А. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий // Койре А. Очерки истории философской мысли. - М.: Прогресс, 1985. – С. 14-15, 16, 19, 23-25.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие аспекты влияния философских концепций на развитие научных теорий выделяет А. Койре?
2. Какие характерные черты присущи научной революции XVII века?
3. По каким причинам космологическая и физическая концепции Аристотеля не находят поддержки в современной науке?
4. Раскройте смысл выражения А. Койре «позитивистский отказ».
5. Почему автор считает Альберта Эйнштейна в равной степени как философом так и физиком?
|
|
|


