 |
Т. Парсонс, Н. Сторер
|
|
|
|
Принято считать, что в естественных науках достоверность в конечном счете проверяется эмпирически и выражается в совпадении логических предсказаний с эмпирическими данными. Воспроизведение экспериментов, однако, ни в коем случае не является рутинным процессом, особенно в тех случаях, когда первоначальный эксперимент был трудным, дорогостоящим и потребовал много времени. Часто эксперимент вовсе не повторяют до тех пор, пока не окажется неверным какое-нибудь предсказание, основанное на полученных ранее данных. Только тогда возникает необходимость перепроверить исходные основания этого предсказания. Эмпирическая проверка, однако, никогда не существует в отрыве от понятийной системы координат, так что зависимость от одних только " фактов" никогда не может дать ничего значимого ни в научном, ни в каком-либо ином смысле. Учитывая наличие такой системы координат, следует признать, что естественные науки, видимо, в наибольшей мере обладают способами проверки достоверности, независимыми от культурных ценностей, благодаря их большей зависимости от физических измерений и относительной определенности чувственных данных. В гуманитарных науках, которые все в некотором смысле ориентированы на историю в силу того, что объектом их анализа являются " продукты культуры" (конкретные объекты вроде книг, произведений изобразительного искусства и все другие артефакты, обладающие целенаправленным значением), достоверность широко понимаемой интерпретации определяется преимущественно через соответствие основной системе ценностей и значении. И хотя гуманитарные дисциплины могут быть вполне эмпирическими во всем, что касается исторических фактов или " текстуальной критики" отдельных продуктов культуры, а на этом уровне достоверность зависит от чувственных данных так же, как и в естественных науках, сила доказательств в них опирается на совершенно иные основания.
|
|
|
В гуманитарных науках критерии достоверности интерпретаций распространяются и принимаются, видимо, не столько на основе оперирования точными значениями, сколько на основе соответствия применяемых понятий, и поэтому здесь труднее выделить " решающие эксперименты", позволяющие выбирать из двух или более конкурирующих интерпретаций данного явления. То, что здесь может быть названо " предсказанием", обычно больше относится к внутреннему состоянию наблюдателя, вобравшего в себя определенную культурно заданную традицию интерпретации, в смысле того значения, которое он усматривает, сталкиваясь с " данными", чем к эмпирическому появлению физического мира.
В социальных науках этот конфликт между объективной эмпирической проверкой и " значением" все еще остается острым. В основе его лежит то, что здесь методы естественных наук в какой-то степени противостоят целям, характерным для гуманитарного знания. Этот конфликт, однако, хотя бы частично берется теперь под контроль тем, что наиболее общая понятийная рамка, определяющая сферы интереса, достоверность тех пли иных основных допущений и характер относящихся к делу данных, задается с помощью гуманитарных стандартов, непосредственная же эмпирическая достоверность оценивается в соответствии со стандартами естественных наук, разумеется, во многих социальных науках вездесущий хи-квадрат часто неприменим, например, в социологической и политологической теории, в полевых антропологических исследованиях, в клинической психологии – в таких случаях достоверность должна опираться на здравый смысл и на видимое совпадение с установленной концептуальной структурой. Именно в этом смысле социальные науки занимают промежуточное положение между естественными и гуманитарными науками и обещают в конечном итоге образовать прочный перешеек между этими двумя формами культуры.
|
|
|
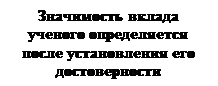 Проблема значимости вклада ученого может быть решена только после того, как установлена его достоверность, хотя сами критерии достоверности частично зависят от существования понятийной системы координат, которая может в то же время указывать и значимость этого вклада. В своей основе эта система координат состоит из ряда допущений относительно сущности исследуемых явлений, будь то простая мысленная модель наподобие коперниканской гелиоцентрической системы или пространный очерк английской политической истории; это, по-видимому, близко к тому, что Томас Кун назвал " парадигмой". В операциональном смысле система координат важна тем, что указывает " каналы", через которые новый результат оказывает влияние на интерпретацию других результатов. Чем яснее и логически последовательнее такая система координат, которую можно было бы назвать и общей теорией, тем, видимо, легче оценить значимость нового вклада ученого. А поскольку в научной профессии престиж в значительной степени определяется тем, насколько широк диапазон областей, в которых найдет отклик работа ученого, то следует ожидать большей социальной сплоченности и большего внутреннего контроля в тех дисциплинах, где имеется в достаточной мере хорошо организованная общая теория или система координат.
Проблема значимости вклада ученого может быть решена только после того, как установлена его достоверность, хотя сами критерии достоверности частично зависят от существования понятийной системы координат, которая может в то же время указывать и значимость этого вклада. В своей основе эта система координат состоит из ряда допущений относительно сущности исследуемых явлений, будь то простая мысленная модель наподобие коперниканской гелиоцентрической системы или пространный очерк английской политической истории; это, по-видимому, близко к тому, что Томас Кун назвал " парадигмой". В операциональном смысле система координат важна тем, что указывает " каналы", через которые новый результат оказывает влияние на интерпретацию других результатов. Чем яснее и логически последовательнее такая система координат, которую можно было бы назвать и общей теорией, тем, видимо, легче оценить значимость нового вклада ученого. А поскольку в научной профессии престиж в значительной степени определяется тем, насколько широк диапазон областей, в которых найдет отклик работа ученого, то следует ожидать большей социальной сплоченности и большего внутреннего контроля в тех дисциплинах, где имеется в достаточной мере хорошо организованная общая теория или система координат.
 В этом отношении естественные науки имеют преимущество. По крайней мере до последнего времени основная система координат в них была всеохватывающе редукционистской в том смысле, что ткани и химические соединения состоят из молекул, те – из атомов, а атомы, в свою очередь, – из субатомных частиц. В действительности различные естественные науки прошли, можно сказать, через серию циклов редукционизма и антиредукционизма, по мере того как давление в направлении генерализации и интеграции постоянно выносили на поверхность все новые " эмерджентные" явления, но в целом можно считать, что теория в этих науках успешно справляется с задачей обозначения основных каналов, по которым открытия и выводы из одних областей знания " перетекают" в другие, а в той мере, в какой использование математики позволяет еще точнее обозначить эти каналы, увеличивается и превосходство естественных наук в данном отношении. Эти условия открывают в естественных науках максимальные возможности для оценки разнообразных приложений той или иной работы; они же облегчают разделение естественных наук с относительно большой степенью точности на мириады узких специальностей. Это частный случай более общего правила, согласно которому степень дифференциации любой системы действия ограничивается эффективностью наличных механизмов интеграции; чем более адекватны последние, тем дальше может заходить процесс дифференциации.
В этом отношении естественные науки имеют преимущество. По крайней мере до последнего времени основная система координат в них была всеохватывающе редукционистской в том смысле, что ткани и химические соединения состоят из молекул, те – из атомов, а атомы, в свою очередь, – из субатомных частиц. В действительности различные естественные науки прошли, можно сказать, через серию циклов редукционизма и антиредукционизма, по мере того как давление в направлении генерализации и интеграции постоянно выносили на поверхность все новые " эмерджентные" явления, но в целом можно считать, что теория в этих науках успешно справляется с задачей обозначения основных каналов, по которым открытия и выводы из одних областей знания " перетекают" в другие, а в той мере, в какой использование математики позволяет еще точнее обозначить эти каналы, увеличивается и превосходство естественных наук в данном отношении. Эти условия открывают в естественных науках максимальные возможности для оценки разнообразных приложений той или иной работы; они же облегчают разделение естественных наук с относительно большой степенью точности на мириады узких специальностей. Это частный случай более общего правила, согласно которому степень дифференциации любой системы действия ограничивается эффективностью наличных механизмов интеграции; чем более адекватны последние, тем дальше может заходить процесс дифференциации.
|
|
|
Социальные науки, частично разделяя с естественными их структуру знаний, находятся на полпути между естественными и гуманитарными науками в отношении определенности и развитости каналов использования достижений. Масштабы деления на специальности здесь больше, чем в гуманитарных, но меньше, чем в естественных науках. Однако давления в направлении дифференциации сильны, при этом в отсутствие надлежащего интегрирующего механизма, каковым должна служить " большая теория" социальных наук, между основными дисциплинами, составляющими эту область, ведется довольно интенсивная пограничная война. До последнего времени в истории социальных наук главным способом дифференциации было скорее отпадение, нежели объединение под эгидой международного права (когда различные государства могут сотрудничать, не завоевывая друг друга). Однако, как мы отмечали выше, мы верим в то, что ткань всех знаний в конечном счете окажется непрерывной, и значительная часть современного брожения в социальных науках может рассматриваться как попытка создания действенного и приемлемого свода " международных законов".
Гуманитарные науки, сосредоточивающиеся в конечном счете на наделенных смыслом культурных продуктах, а не на описании физических процессов, зависят в определении своих каналов использования и распространения достижений от основных ценностей общества. Этими ценностями гуманитарии не могут манипулировать по своему усмотрению (хотя одной из главных функций гуманитария является раскрытие отношений между ценностями и их значением для социального действия); они почти что встроены в их личностную структуру, поскольку ученые тоже члены определенного общества.
|
|
|
В то же время при наличии норм личной ответственности и организованного скептицизма и при том, что различия в воспитании могут порождать различное видение социальных ценностей, гуманитарии испытывают чрезвычайные трудности в конструировании приемлемой для всех и при этом достаточно точной структуры своей широчайшей области знаний. Основными элементами такой структуры должны быть не допущения относительно эмпирической реальности, а ценности; они же, по всей видимости, менее податливы логическому обоснованию или опровержению, чем, скажем, допущения о структуре молекулы ДНК. В довольно-таки важном смысле гуманитарии работают непосредственно со структурой значений, которая в других областях принимается как данное. У гуманитариев при структурировании их области знания нет возможности использовать какую-то более широкую и более основополагающую систему значений, и в этом смысле можно сказать, что они стоят ближе, чем естественники и представители социальных наук, к фундаментальным основам знания.
Процесс убеждения здесь, а также " конструирование согласия" по поводу того, что считать надлежащей организацией знания, часто имеет денотативный, а не коннотативный характер, поскольку обсуждается сама логика этой организации. По этой причине гуманитарные науки в поддержании своей целостности и внутреннего контроля больше, чем другие области знания, зависят от помощи внешних для себя факторов. Именно поэтому среди гуманитариев мы находим большее внимание к вопросам социальной принадлежности, " стиля" и приверженности не столько к профессии в целом, сколько к определенному учебному или исследовательскому заведению, а также часто большую и явно выраженную склонность к преподаванию, а не к исследованию. В этих условиях гуманитарные науки представляются наименее способными из трех рассматриваемых областей к выработке точных и общепринятых критериев значимости, и потому они менее автономны и " профессионализированы". Конечно, внутри гуманитарных дисциплин имеются " школы", обладающие внутренней сплоченностью и выработавшие в своих границах прочное согласие относительно стандартов как достоверности, так и значимости. Однако " парадигмы", на которые они опираются, будучи относительно мало связанными с эмпирической проверкой, зависят, в смысле их принятия или непринятия, от убеждения, отталкивающегося не столько от эмпирических подтверждений, сколько от ценностных приверженностей, и часто их бывает трудно " логическим образом" распространить на всю область. Зачастую такие школы кристаллизуются вокруг одной или нескольких доминирующих личностей и связываются с определенным университетом, где эти люди оказывают большое личное влияние на своих студентов.
|
|
|
Выше мы обсудили различия между дисциплинами, связанные исключительно с различиями, внутренне присущими соответствующим видам знания. Проблемы общепринятости критериев достоверности и значимости в среде представителей той или иной из дисциплин мы коснулись главным образом под углом зрения метафизических оснований этих критериев, хотя это отнюдь не единственный фактор. Теперь мы должны перейти к рассмотрению влияющих на эти различия эмпирических факторов. Здесь мы должны обратить внимание на тот факт, что знание, для того чтобы служить предметом публичного обсуждения, должно быть так или иначе зафиксировано (хотя бы посредством сказителя или мудреца, в чьи обязанности входит запоминание и хранение исторических или генеалогических фактов). Материалы, с которыми работают ученые, фиксируется в " литературе", и нам необходимо прояснить значение этого понятия. Прежде всего ясно, что при наличии нормы организованного скептицизма ученый не может требовать, чтобы другие принимали его работу просто на веру; если же другим надлежит дать независимую оценку его работы, то материалы, на которые он ссылается, должны быть им доступны. В наиболее простом случае его ссылки относятся к материалам, которые можно найти в литературе. Далее, если он хочет, чтобы его вклад играл роль в расширении знаний в его области, этот вклад также должен найти место в литературе, поэтому ученый стремится опубликовать свою работу, а не просто сообщить о ней нескольким друзьям.
 Во-вторых, " литература" должна быть общедоступной, и хранение и доставка знаний должны быть организованы таким образом, чтобы эта общедоступность была для ученых само собой разумеющимся делом. Двумя основными механизмами, посредством которых удовлетворяется это требование, являются библиотека и журнал; их существенная функция – делать доступными ученым материалы, относящиеся к области их интересов, но незнакомые им до этого. Библиотеки, естественно, делают доступными и те материалы, которых не бывает у отдельного ученого из-за их редкости или большой стоимости, а также прошлые выпуски журналов, которых нет в его личной библиотеке. Но хотя наличие доступа в научную библиотеку примерно подобно подписке на журнал, между этими вещами есть и важное различие.
Во-вторых, " литература" должна быть общедоступной, и хранение и доставка знаний должны быть организованы таким образом, чтобы эта общедоступность была для ученых само собой разумеющимся делом. Двумя основными механизмами, посредством которых удовлетворяется это требование, являются библиотека и журнал; их существенная функция – делать доступными ученым материалы, относящиеся к области их интересов, но незнакомые им до этого. Библиотеки, естественно, делают доступными и те материалы, которых не бывает у отдельного ученого из-за их редкости или большой стоимости, а также прошлые выпуски журналов, которых нет в его личной библиотеке. Но хотя наличие доступа в научную библиотеку примерно подобно подписке на журнал, между этими вещами есть и важное различие.
Оно состоит в том, что журнал попадает непосредственно в руки отдельного ученого, который подписывается на него не ради отдельных конкретных статей, а потому что тот служит прямым каналом связи, идущим к нему от его коллег, и доставляет ему все, что они создают в данной области. Читает или не читает каждый подписчик все, что опубликовано в получаемых им журналах, это менее важно, чем то, что он имеет возможность быть " в курсе дела" и получить общее представление о последних тенденциях, не заглядывая дальше оглавления. Чрезвычайно важную функцию выполняет также журнальный раздел рецензий и аннотаций на книги, который может привлечь внимание ученого к материалам, недавно поступившим в библиотеку. У журнала, таким образом, есть " гарантированная" аудитория, в то время как библиотека чаще обслуживает ученых " по требованию"; журналы поэтому играют более важную роль в создании и поддержании общепринятых стандартов достоверности и значимости внутри данной дисциплины.
Среди дисциплин наблюдаются очевидные различия в смысле относительной важности материалов, которые поступают главным образом в библиотеки, и материалов, составляющих содержание журналов. С одной стороны, литература считается достаточно точным отражением идеальной совокупности знаний, накопленных данной дисциплиной, а с другой стороны, она тесно связана с вопросами физической доступности этих знании, то есть доступа конкретных индивидов к знанию в пределах того, что инженеры называют " реальным временем". Для тех, кто занимается проблемами доступа к знаниям, наиболее актуальны вопросы, связанные с действием таких факторов, как объем литературы по данной специальности, темпы увеличения этого объема и степень организованности этой литературы.
Определенные различия между дисциплинами, связанные, как мы говорили, с внутренними особенностями того или иного типа знания, складываются и на проблемах физической обработки информации. Главная из них – это организация знания, поскольку степень организованности знания в теоретическом отношении отражается и в организации способов его фиксации. Мы высказали предположение, что такая организация, видимо наиболее успешно осуществляется в естественных науках и наименее – в гуманитарных, а социальные науки в этом смысле должны занять место где-то между ними. Однако существование " лучшей теории", яснее указывающей каналы использования научных результатов, способствует увеличению быстроты, с которой осуществляется и фиксируется в литературе последующая работа. Так что именно в естественных науках критической проблемой становится " публикационный взрыв".
Можно задаваться вопросом, объясняются ли нынешние трудности в обеспечении доступа к знаниям только публикационным взрывом (который, кстати, не является новым феноменом, а просто в последние 20 лет достиг таких масштабов, что его осознали как проблему) или более существенным фактом, что области науки, в которых производится все это знание, сами находятся в состоянии относительной дезорганизации. В действительности же эти два фактора теснейшим образом связаны. Увеличение объема относящейся к той или иной дисциплине информации создает дополнительные нагрузки на интегративные способности лежащей в ее основе теории, так что в конце концов в каждой дисциплине наступает своего рода мальтусовское или по крайней мере паркинсоновское устойчивое состояние, при котором количество добавляемых к существующей литературе материалов ограничено способностью дисциплины организовать эту информацию. По мере увеличения организационной или интегративной способности увеличивается и объем обрабатываемой информации, так что " нагрузка" может оставаться относительно постоянной.
Масштабы и частота этих циклов организации и дезорганизации, несомненно, варьируют в различных дисциплинах в силу внутреннего характера их интересов, а также в силу внешних факторов, таких, как различия в финансировании исследовательской работы, изменения в притоке кадров и перемены в сферах практического применения научных результатов. В тех научных областях, где по самой их природе относительно высокий уровень организованности легче достижим, такие циклы будут, несомненио, иметь место более часто, чем там, где общее согласие по поводу парадигм или сложных общих теорий достигается с большим трудом. Необходимые для достижения такого согласия физические условия – коммуникация между учеными в рамках дисциплины, качество подготовки в данной области и т. п. – представляются чрезвычайно важными и опять-таки систематически изменяются от дисциплины к дисциплине. Такого рода проблемы, однако, представляются, по крайней мере частично, разрешимыми за счет привлечения экономических ресурсов (выделения большего времени для работы, помощи в издании дополнительного количества журналов, усовершенствования библиотечной техники и т. п. ) и не являются главным предметом данной статьи.
Можно ожидать, что различия между дисциплинами в будущем увеличатся. При наличии тяги к специализации как следствия стремления ученых найти других коллег, способных компетентно отреагировать на их работы, и непрерывного роста научной профессии и литературы по всем составляющим науку дисциплинам будет, по-видимому, расширяться и разрыв между ученым " на переднем крае" и теоретиком, озабоченным организацией всей области знания. В этот разрыв и должен устремиться специалист по информации. < …>
Парсонс Т., Сторер Н. Научная дисциплина и
дифференциация науки
http: //www. courier-edu. ru/pril/posobie/parst. htm
Вопросы для самоконтроля:
1. Различаются ли критерии достоверности в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах?
2. Почему значимость вклада учёного в какую-либо отрасль может быть адекватно определена лишь только после установления его достоверности?
3. Как можно проинтерпретировать правило, согласно которому степень дифференциации любой системы деятельности объективно ограничивается эффективностью существующих механизмов интеграции?
4. Почему в среде гуманитарных наук процесс убеждения или конструирования согласия по поводу организации знания имеет денотативный, а не коннотативный характер?
5. Почему гуманитарные науки в процедурах поддержания собственной целостности в большей степени зависят от внешних факторов?
6. Почему именно сфера гуманитарного знания в меньшей степени автономна и «профессионализирована», нежели другие ареалы научного знания?
7. Какую роль в хранении и доставке знания внутри научного сообщества играют библиотеки и научные журналы? В чём заключаются функциональные различия последних?
|
|
|


