 |
Урок 2. Происхождение знания: чувства или рассудок?
|
|
|
|
Цель изучения урока 2:
– Уметь ориентироваться в гносеологических дискуссиях по вопросу об источниках познания;
– Знать основные принципы эмпиризма и рационализма в гносеологии, их представителей, специфику эволюции;
– Приобрести навыки сравнительного анализа основных гносеологических доктрин и версий этих доктрин
Как уже было сказано выше, звездный час гносеологии приходится на эпоху Нового Времени. Мы говорили, что доминирующей установкой философии этого периода был гносеоцентризм. Это означает, что на первый план философского исследования вышли взаимосвязанные вопросы об источниках достоверного знания, о путях и методах истинного познания, о критериях достоверности того, что мы называем «наши знания». И философы разделились здесь на два направления. Эмпиристы (истоки этого течения мы находим у античных эпикурейцев) полагали, что все наши знания, в конечном счете, сводятся к полученному из реального (чувственного) опыта (эмперейа по-гречески и означает «опытный»). Разум может привносить в наши знания, имеющие чувственную природу, лишь порядок, проясняя их («различие между чувственностью и рассудком лишь логическое и состоит в степени ясности и отчетливости знаний»). Но добавить что-либо принципиальное «от себя» он не способен. Все наши идеи и утверждения имеют сугубо чувственное происхождение. Рационалисты («отцом» которых был, очевидно, Платон), напротив, считали, что только разум сам по себе, своим чистым, незамутненным чувственными восприятиями взором способен непосредственно усмотреть ясную и отчетливую истину в глубинах самого себя (такая способность разума называлась в Новое Время интеллектуальной интуицией). Иначе говоря, разум обладает свои собственным, независимым от чувственности, содержанием (например, врожденными истинами)[7].
|
|
|
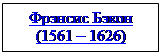
 У истоков новоевропейского эмпиризма стоял Фрэнсис Бэкон, фигура во многом знаковая, человек, сыгравший огромную роль в становлении современного образа науки (прежде всего, естественной). Он выдвинул проект «великого восстановления наук» (подразумевалось, что в эпоху «Тьмы Средневековья» науки как таковой не было, ибо все был подчинено потусторонним предметам и целям исследований), основанный на новом понимании задач науки и философии. Наука должна изучать реальную, окружающую человека природу (а не строить умозрительные модели, как это делал, скажем, Аристотель), причем изучать так, чтобы результаты этого познания могли быть использованы для практических целей – совершенствования человеческой цивилизации, повышения жизненного уровня людей и т.д. Тогда философия должна стать общей теорией научного познания, методологией науки (здесь можно усмотреть зачатки распространенной в 20 веке т.н. «позитивистской» интерпретации философии как служанки науки). Безусловно, мичуринский лозунг всех покорителей природы «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» берет свое начало от бэконовского «Знание – сила». Цель науки – достижение объективной истины. Но на пути к ней человека подстерегает множество препятствий, виды которых Бэкон систематизировал и распределил по 4 классам, назвав сами эти мешающие правильному познанию обстоятельства «идолами» (или «призраками»). К их числу относятся: 1) естественное стремление человека к постижению природы по аналогии с самим собой (всякого рода антропоморфные, в частности, телеологические объяснения) – «идолы рода»; 2) роль личных предпочтений исследователя в процессе постановки и интерпретации опыта – «идолы пещеры»; 3) трудности, связанные с употреблением плохо и расплывчато определенных терминов, – «идолы рынка»; 4) некритическая вера в сложившиеся научные стереотипы и авторитеты, тормозящая творчество, – «идолы театра».
У истоков новоевропейского эмпиризма стоял Фрэнсис Бэкон, фигура во многом знаковая, человек, сыгравший огромную роль в становлении современного образа науки (прежде всего, естественной). Он выдвинул проект «великого восстановления наук» (подразумевалось, что в эпоху «Тьмы Средневековья» науки как таковой не было, ибо все был подчинено потусторонним предметам и целям исследований), основанный на новом понимании задач науки и философии. Наука должна изучать реальную, окружающую человека природу (а не строить умозрительные модели, как это делал, скажем, Аристотель), причем изучать так, чтобы результаты этого познания могли быть использованы для практических целей – совершенствования человеческой цивилизации, повышения жизненного уровня людей и т.д. Тогда философия должна стать общей теорией научного познания, методологией науки (здесь можно усмотреть зачатки распространенной в 20 веке т.н. «позитивистской» интерпретации философии как служанки науки). Безусловно, мичуринский лозунг всех покорителей природы «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» берет свое начало от бэконовского «Знание – сила». Цель науки – достижение объективной истины. Но на пути к ней человека подстерегает множество препятствий, виды которых Бэкон систематизировал и распределил по 4 классам, назвав сами эти мешающие правильному познанию обстоятельства «идолами» (или «призраками»). К их числу относятся: 1) естественное стремление человека к постижению природы по аналогии с самим собой (всякого рода антропоморфные, в частности, телеологические объяснения) – «идолы рода»; 2) роль личных предпочтений исследователя в процессе постановки и интерпретации опыта – «идолы пещеры»; 3) трудности, связанные с употреблением плохо и расплывчато определенных терминов, – «идолы рынка»; 4) некритическая вера в сложившиеся научные стереотипы и авторитеты, тормозящая творчество, – «идолы театра».
|
|
|
Такой масштабный проект предполагал перестройку всей стратегии организации познавательного отношения – а именно, опору на реальные наблюдения, опыт, эксперименты. Но все эти познавательные методы и способы могут дать лишь частное, единичное знание явлений (типа «Данному объекту А присуще свойство Б»). А цель науки – формулирование общих законов, знание сущностных причин происходящего, достижение способности не только описывать и объяснять, но и предсказывать. Значит, необходима была разработка теории нового научного метода, который позволил бы сводить множество экспериментальных данных к четким и лаконичным формулировкам законов природы. В своем сочинении «Новый Органон» Бэкон представляет модель такого метода, который он назвал индуктивным (от лат. слова «индукция», что означает «наведение», надо признать, что название оказалось «говорящим»). Была и другая аргументация в пользу необходимости нового метода. Традиционный метод логики познания, разработанный еще Аристотелем (в его сочинении «Органон», теперь нам понятна и претенциозность заглавия труда Бэкона), был дедуктивным. Сутью этого метода было достоверное выведение некоторого заключения из нескольких посылок. Например: «Папоротники никогда не цветут. Это растение, как мы видим, цветет. Значит, оно не может относиться к папоротникам». Или: «Если бы прошел дождь, асфальт был бы мокрым. Но, как мы видим, асфальт сухой. Значит, дождя не было». Очевидно, что дедуктивные выводы – это выводы от общего к частному (точнее, к менее общему). В наших примерах первые посылки представляют собой общие утверждения, заключения – частные. Но логическая сила дедукции (правила дедуктивной логики гарантируют истинность заключения при условии истинности посылок) оборачивается ее гносеологической слабостью. Если мы имеем дело с гарантией истинности вывода, значит, он уже потенциально содержался в посылках (как, в простейшем случае, тезис «Некоторые крылатые существа – птицы» скрыт в тезисе «Все птицы крылаты», из которого он следует по правилам логики). Следовательно, дедукция не дает принципиально нового знания. Она хороша при анализе уже имеющейся информации, но в естественных науках (цель которых как раз и состоит в открытии новых истин), очевидно, как писал Бэкон, бесполезна. Она может быть подчиненным, но не основным методом познания. Кроме того, сам дедуктивный вывод предполагает использование неких общих утверждений. Встает вполне законный вопрос: «А откуда мы получили сами эти общие утверждения?» Особенно если это утверждения типа «Всегда и везде явления А и Б связаны между собой». Этому вопросу была уготована судьбоносная роль в истории гносеологии. Вскоре мы вернемся к нему.
|
|
|
Фактически противоположных Бэкону взглядов придерживался основатель новоевропейского рационализма Рене Декарт. Он как раз критикует те основания, на которых строит здание эмпиризма Бэкон. Утверждается, что база нашего знания – чувственные данные? Но разве данные чувственных восприятий нас никогда не обманывают? Разве не встречаемся мы с огромным количеством зрительных и прочих иллюзий? (Декарт как психолог стоит у истоков анализа и систематизации примеров подобных «обманов зрения», огромную коллекцию которых можно посмотреть здесь).  Разве не правомерно с точки зрения логики усомниться во всем, к чему имеет отношение вечно путающая строгий порядок мышления чувственность? И потом, разве нельзя в принципе допустить, что весь мир – гигантская «обманка», иллюзия, сон, насланный на нас хитроумным Богом-обманщиком? Поэтому Декарт делает вывод, что только в глубинах разума можно отыскать неколебимую истину (если вообще можно ее отыскать).
Разве не правомерно с точки зрения логики усомниться во всем, к чему имеет отношение вечно путающая строгий порядок мышления чувственность? И потом, разве нельзя в принципе допустить, что весь мир – гигантская «обманка», иллюзия, сон, насланный на нас хитроумным Богом-обманщиком? Поэтому Декарт делает вывод, что только в глубинах разума можно отыскать неколебимую истину (если вообще можно ее отыскать).  Следовательно, познание должно начинаться не с фиксации данных опыта, а со всеобщего методологического сомнения. Мы не можем начинать исследование природы ни с чего, на что могло бы быть распространено подобное сомнение. Казалось бы, Декарт идет по пути скептиков: «Смотри, изучай, сомневайся, но ничего не утверждай наверняка». Однако это сходство лишь видимое. Требование всеобщего сомнения, с которого началось рассмотрение, не превращается Декартом в итог исследования. В самом деле, разве может сам сомневающийся сомневаться в том, что он существует? Если бы он не существовал, кто мог бы сейчас в этом сомневаться? (В известном мультфильме «Винни-Пух» подобным образом рассуждает главный герой: «Если там, в доме у Кролика, никого нет, то кто же тогда говорит, что там никого нет?»). Следовательно, итогом сомнения по-картезиански является открытие вечных, универсальных, несомненных истин и идей («врожденных», как их называет Декарт), очевидно, рациональных по своей природе и служащих фундаментом всего нашего знания. Субъект открывает в себе «естественный свет разума», а соответствие самого мира вещей знаниям, заложенным во врожденных идеях, обеспечивает Бог-«Правдолюбец» (сам этот тезис Декарт доказывает отдельно).
Следовательно, познание должно начинаться не с фиксации данных опыта, а со всеобщего методологического сомнения. Мы не можем начинать исследование природы ни с чего, на что могло бы быть распространено подобное сомнение. Казалось бы, Декарт идет по пути скептиков: «Смотри, изучай, сомневайся, но ничего не утверждай наверняка». Однако это сходство лишь видимое. Требование всеобщего сомнения, с которого началось рассмотрение, не превращается Декартом в итог исследования. В самом деле, разве может сам сомневающийся сомневаться в том, что он существует? Если бы он не существовал, кто мог бы сейчас в этом сомневаться? (В известном мультфильме «Винни-Пух» подобным образом рассуждает главный герой: «Если там, в доме у Кролика, никого нет, то кто же тогда говорит, что там никого нет?»). Следовательно, итогом сомнения по-картезиански является открытие вечных, универсальных, несомненных истин и идей («врожденных», как их называет Декарт), очевидно, рациональных по своей природе и служащих фундаментом всего нашего знания. Субъект открывает в себе «естественный свет разума», а соответствие самого мира вещей знаниям, заложенным во врожденных идеях, обеспечивает Бог-«Правдолюбец» (сам этот тезис Декарт доказывает отдельно).
|
|
|
Декарт разработал правила своего рационалистического метода аналогично тому, как Бэкон – правила своего индуктивного метода (направленные на повышение научности и тем самым вероятности истинности заключения вывода «от частных случаев к общему правилу»). Этих правил Декарт называет 4:
- Начинать с простого и очевидного, логически несомненного;
- Разделять сложную проблему, вопрос, объект на столько частей (аспектов), сколько требуется для их полноценного анализа;
- В познании двигаться от решения более простых задач к решению более сложных (от познания механизма частей целого к познанию механизма самого этого целого);
- Строго контролировать каждый шаг исследования, дабы быть уверенным в том, что ничего не упущено и не пропущено, и каждый переход в цепи рассуждений логически обоснован.
Новоевропейский рационализм, образ которого был задан Декартом, нес на себе печать своего времени. Самым тесным образом он связан с механицистской установкой в постижении сущности природных объектов – трактовкой их как более или менее сложных механизмов, для описания работы которых вполне достаточно данных физики и математики. В самом деле, взглянем еще раз на 3-е правило. Часто его называют правилом синтеза (молчаливо подразумевая, что механицизм основан на анализе, расчленении, упрощении – см. правило 2). Однако необходимо учитывать специфику трактовки этого правила у Декарта. Он полагает, что сам этот переход (от знания устройства и работы частей к соответствующему знанию о целом) может быть осуществлен «аналитически» (и в этом смысле механически). Сложное есть, по Декарту, функция своих частей. Никаких в современной терминологии теории систем «интегральных качеств» (свойств целого, не выводимых из свойств частей) не существует. Мы имеем дело с механическим суммированием маленьких механизмов-подсистем в один большой. «Животные есть автоматы», – так недвусмысленно выражался Декарт. Иными словами, наука и методология того времени не видела (или не хотела видеть) качественной специфики, скажем, живого по отношению к неживому, сводя первое к разновидности второго. Такая позиция называется редукционизмом (от лат. редукция – сведение). В методологии естественных наук это очень опасная, тупиковая, антидиалектическая позиция, ибо упрощает действительную сложность мира – игнорирует особый характер взаимоотношения между различными уровнями в сложной системе, когда высшие уровни основываются на низших, но к ним не сводятся. Редукционизм приемлем в математике (когда, скажем, удается представить новую задачу как модификацию уже решенной ранее, то есть свести к ней), но не более того.
|
|
|
 Резкую критику Декарта развил в своей программной для всего эмпиризма теории Джон Локк. Нет никаких врожденных идей, ибо это утверждение ничем не подтверждается – ни туманной ссылкой на то, что «это всем известно» (скажем, дети, какие-нибудь туземцы из диких племен или сумасшедшие могут и не подозревать о существовании логических законов), ни отдающим психологической окраской тезисом «Это очевидно, ибо ясно, как день». Не бывает и так, говорит Локк, чтобы кто-то что-то знал, но не осознавал этого что-то (иными словами, по Локку сознание абсолютно прозрачно, бессознательных знаний нет), как пытались спасти положение картезианцы. Человек при рождении – «чистая доска», на которую только чувственный опыт (как внешний – с помощью рецепторов, органов чувств, так и внутренний, названный Локком рефлексией, - с помощью интроспекции, самонаблюдения) наносит «письмена»-знания. Разум же сам по себе бессилен. Он не может сам своими силами ни изобрести новую идею, понятие (не имевших аналогии в прошлом опыте), ни уничтожить уже имеющуюся. В самом деле, подчеркивает Локк, разве может человек, никогда не пробовавший банана, адекватно помыслить себе вкус этого фрукта? Разве не сводятся создаваемые разумом образы несуществующих «химер» (типа русалок) к комбинациям образов, предварительно известных из опыта (женщина + рыба)? Разве может разум своей собственной силой приказать себе забыть что-либо (тот же, к примеру, вкус банана)? В литературе, в том числе научно-фантастической, этот сюжет обыгрывался множество раз. Известна, к примеру, восточная притча о придворном лекаре, которому было поручено вылечить сына царя, но который не справился с заданием. Когда его собирались за это казнить, он возразил: «Я предупреждал его, чтобы во время лечебных процедур он не думал о большой черной обезьяне. А он взял и подумал. А я, очевидно, здесь ни при чем». Похожий мотив мы встречаем и в фантастическом рассказе Р. Шекли «Запах мысли».
Резкую критику Декарта развил в своей программной для всего эмпиризма теории Джон Локк. Нет никаких врожденных идей, ибо это утверждение ничем не подтверждается – ни туманной ссылкой на то, что «это всем известно» (скажем, дети, какие-нибудь туземцы из диких племен или сумасшедшие могут и не подозревать о существовании логических законов), ни отдающим психологической окраской тезисом «Это очевидно, ибо ясно, как день». Не бывает и так, говорит Локк, чтобы кто-то что-то знал, но не осознавал этого что-то (иными словами, по Локку сознание абсолютно прозрачно, бессознательных знаний нет), как пытались спасти положение картезианцы. Человек при рождении – «чистая доска», на которую только чувственный опыт (как внешний – с помощью рецепторов, органов чувств, так и внутренний, названный Локком рефлексией, - с помощью интроспекции, самонаблюдения) наносит «письмена»-знания. Разум же сам по себе бессилен. Он не может сам своими силами ни изобрести новую идею, понятие (не имевших аналогии в прошлом опыте), ни уничтожить уже имеющуюся. В самом деле, подчеркивает Локк, разве может человек, никогда не пробовавший банана, адекватно помыслить себе вкус этого фрукта? Разве не сводятся создаваемые разумом образы несуществующих «химер» (типа русалок) к комбинациям образов, предварительно известных из опыта (женщина + рыба)? Разве может разум своей собственной силой приказать себе забыть что-либо (тот же, к примеру, вкус банана)? В литературе, в том числе научно-фантастической, этот сюжет обыгрывался множество раз. Известна, к примеру, восточная притча о придворном лекаре, которому было поручено вылечить сына царя, но который не справился с заданием. Когда его собирались за это казнить, он возразил: «Я предупреждал его, чтобы во время лечебных процедур он не думал о большой черной обезьяне. А он взял и подумал. А я, очевидно, здесь ни при чем». Похожий мотив мы встречаем и в фантастическом рассказе Р. Шекли «Запах мысли».
Мы в главе «Онтология» уже бегло касались вопроса о британском эмпиризме Нового Времени. Еще раз подчеркнем, что можно выделить две основные разновидности эмпиризма – материалистический (основанный на признании объективного существования познаваемого через чувственный опыт мира, мира «вне субъекта») и субъективно-идеалистический (вещи как они есть сами по себе либо непознаваемы, либо вообще утверждение их существования невозможно, вся реальность и есть совокупные данные нашего опыта). Весьма показательной представляется в этом ключе эволюция британского эмпиризма – от оптимистического (в гносеологическом аспекте) и материалистического (в онтологическом) толкования его Бэконом, который основывался на здравом смысле ученого-естествоиспытателя, до крайнего субъективизма и гносеологического пессимизма Беркли и особенно Юма, исходивших из чисто философской аргументации. Анализу теории невозможности объективного знания Юма и возможных путей ее критики будет посвящен следующий урок.
|
|
|


