 |
«Языки» арктического пространства 2 страница
|
|
|
|
Образ космической пустоты, заключенный в топониме Пустозерск, порождает и все выморочное семантическое поле топонимического пространства пустозерской округи (река Гнилка, Виселечный мыс, деревня Бедовая, озеро Дьяволовиска, Кислая Лахта, Бесово озеро, Прелое озеро, болота Большая Грязь и Малая Грязь и т. п. ). Наряду с лексикой, отражающей образы пустоты, гибельности и дьявольщины, в топонимике пустозерской округи присутствует значительный слой лексики, производной от этнонима «русский» (озеро Русское, река Русская и т. д. ). Актуальность и значимость этнонима «русский» для пустоозеров была обусловлена их восприятием своего города и волости как лежащих за пределами русского мира, в землях поганой (языческой) самояди. Подобное мировосприятие отражено в формуляре переписных книг Пустозерской волости конца XVII—начала XVIII в., в которых фигурируют стереотипные фразы типа: «обнищал и съехал в русские городы давно»; «тяглые крестьяне сбегают в русские городы»; «покинув дома свои для хлебных нужд и иных скудостей в русские городы и уезды» и т. п. В этих формулах раскрывается косвенное восприятие Пустозерска как «не-русского» города, из-за пустоты (скудости) которого люди бегут в «русские городы и уезды». «Русская» топонимика и этнонимика Пустозерска отражает общую закономерность поморской культуры, стремившейся сохранить свою русскость в условиях иноприродного, инородческого окружения. Поэтому в поморском словаре вплоть до XX века сохранялся архаический топоним «Русь». «Когда поморы возвращаются океаном из Норвегии или с острова Новой Земли, то говорят, что идут вверх, в Русь»46. Двойной стандарт этнического самосознания поморов, которые не считали себя русскими, но в то же время называли свои земли Русью, превратил Поморье в уникальный этнографический заповедник, где накапливался бесценный опыт сохранения и воспроизводства русскости как таковой.
|
|
|
Изначальная русскость «не-русского» Пустозерска воплощена в символике его храмов (соборный Спасо-Преображенский, Никольский, Георгиевский, Введенский),
 отразившей важнейшие особенности русского образа освоения арктического пространства как сакрального феномена, наполненного религиозным смыслом. Храмовый ансамбль Пустозерска — это свиток священного пространства, в котором образ Николы утверждает «русскость» города. На страже границ этого островка русской жизни стоит святой воин — Георгий Победоносец. Образ храма Преображения — это символ русского освоения арктического пространства, образ преображенного мира «нового неба и новой земли». А над всем этим преображенным русским миром распростерты покрова Богородицы, взявшей все русские земли в свой благодатный удел.
отразившей важнейшие особенности русского образа освоения арктического пространства как сакрального феномена, наполненного религиозным смыслом. Храмовый ансамбль Пустозерска — это свиток священного пространства, в котором образ Николы утверждает «русскость» города. На страже границ этого островка русской жизни стоит святой воин — Георгий Победоносец. Образ храма Преображения — это символ русского освоения арктического пространства, образ преображенного мира «нового неба и новой земли». А над всем этим преображенным русским миром распростерты покрова Богородицы, взявшей все русские земли в свой благодатный удел.
Наряду с лукоморской мифологией важное значение для осмысления религиозной феноменологии Севера имеет образ Бьярмаланда, или Бьярмии. Бьярмаланд — таинственная и загадочная «страна бьярмов», расположенная на крайнем северо-востоке европейской ойкумены, в очарованных землях могущественных волшебников и чародеев — финноязычных народов Севера. Страна бьярмов была открыта европейскому миру отважными скандинавскими мореплавателями и воинами-викингами, которые под водительством и знаменами своего божественного покровителя и вождя, вечного странника и шамана бога Одина, в порыве религиозного эсхатологического культуртрегерского экстаза самозабвенно раздвигали горизонты космографического «Земного Круга». Географическая картина мира скандинавов эпохи викингов космологична, насыщена религиозно-космологическим, аксиологическим смыслом и содержанием. Потому и «Бьярмаланд» скандинавских саг — это не какая-то чисто географическая реальность, но обобщенный до стереотипа мифологизированный образ Севера, где лежат земли, населенные великанами и колдунами — финнами, где совершают свои подвиги герои скандинавского мифологического эпоса и волшебной сказки и, наконец, где расположена райская «страна бьярмов», изобильная мехами и драгоценными камнями.
|
|
|
Образ сказочной и загадочной Бьярмии был актуален не только для религиозно-мифологической и этногеографической картины мира скандинавов эпохи викингов, для научной историографии нового и новейшего времени, но он оказал и плодотворное, стимулирующее воздействие на становление этнического самосознания народов Баренцева региона, на творческое самоопределение и жизненную судьбу отдельных личностей, стремившихся в своем творчестве выразить и воплотить религиозно-национальные идеалы и ценности своего народа, его этническую идею.
Образ Бьярмии был имплицитным, но вполне распознаваемым, очевидным глубинным (генотипическим) источником историографического миросозерцания великого русского энциклопедиста XVII века, «архангельского мужика» Михаила Ломоносова, который в своей «Древней Российской истории», со ссылками на Снорри Стурлусона и Саксона Грамматика, описывает военно-торговые походы викингов в чудские земли «Пермии», или «Бьярмии». Для Ломоносова — холмогорского уроженца Двинской земли — «Бьярмия» не являлась каким-то отстраненным предметом академических штудий, но это была его родина, топографические реалии которой (река Северная Двина, город Холмогоры) абсолютно совпадали с картографией скандинавских саг, описывающих мифологическую географию Бьярмии (река Вина, торг, святилище бога Йомали). Столь же реальны и даже лично знакомы Ломоносову жители Бьярмаланда — бьярмы. Это «заволочская чудь» — финноязычный народ, чьи немногочисленные потомки, по словам великого холмогорца, — «поныне
живущие по Двине чудского рода остатки, которые через сообщение с новгородцами природный язык свой позабыли». Поэтому Ломоносов, родившийся в самой столице «страны бьярмов» (заволочской чуди) — Холмогорах, не мог не ощущать в себе «чудского», «биармийского» родового начала, не мог не выразить архетип страны своего детства в собственном жизнетворчестве, направленном на широкое, экстенсивное, всестороннее, «энциклопедическое» освоение внешнего (в том числе и западного) мира с целью его творческой рекультивации (переработки) для приумножения, приращения богатства родного Отечества.
|
|
|
Совершенно иным образом «биармийский комплекс» проявился в жизни и творчестве другого подвижника Архангельской земли, последнего Поэта, Художника и Певца морской славы Севера — Бориса Шергина, наиболее полно воплотившего и выразившего в своем жизненном «художестве» религиозные, национальные и культурные ценности Русского Севера — особую «северно-русскую идею», которая определяет место Севера в пространстве русского мира, во всем священном космосе русской жизни. В отличие от Михаила Ломоносова, который вслед за своим духовным отцом Петром Великим стремился к физическому, материальному процветанию и «приумножению» России, претворению в ней образа первого Рима (Римской империи), Борис Шергин воспевал свою «малую», «тихую» родину — Север (Поморье) как образ и подобие, микрокосм Святой Руси — православное царство Северной Фиваиды.
В XIX веке, благодаря открытию северно-русской былинной (эпической фольклорной) традиции, поморский Север стали именовать «Исландией русского эпоса». С одной (наиболее поверхностной) стороны, уподобление, типологическое сближение Исландии и Русского Севера имеет чисто функциональную природу и отражает их изоморфный статус как хранителей исторической памяти народов Скандинавии и России (русского народа). С другой стороны, Исландия и Русский Север не только изофункциональны, но и изотопны друг другу. Они располагаются на северной периферии пространства своих культурных традиций (скандинавской и русской). И здесь представляется наиболее значимой не только и не столько их пограничная топография, сколько их именно северная топология (особая «северная периферийность», феномен северности как таковой).
|
|
|
Север в картине мира народов Скандинавии и России никогда не являлся чисто географической категорией, ориентирующей человека в физическом пространстве Земли. Север — это мета-физическое явление, существующее в «ином» плане бытия, в ином измерении, доступном человеческому (земному, здешнему) восприятию только в особом экстатическом состоянии прорыва, выхождения из себя, достигаемом в мистическом озарении. Мистицизм Севера скрыт в его запредельности, недоступности, неподвластности законам «земного тяготения». По мере продвижения на Север весь тварный, видимый и осязаемый мир начинает терять свои «обычные» твердые формы и установленные очертания. Структурированный космос расплывается, становится текучим, зыбким, призрачным. Мир покидает свою пространственно-временную ограниченность, предельность, конечность. Пространство истончается, просветляется и исчезает, растворяясь в стихии целокупного света полярного дня. Подобная же трансформация происходит и со временем, которое начинает замедлять свой ход и, достигнув последнего предела, навсегда останавливается и становится вечностью.
«Инобытие» Севера доступно и комфортно не всем народам, но лишь немногим избранным, обладающим особым божественным даром жить в ином измерении, «ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 20. 18). На Севере, где стерты грани, отделяющие наличный план бытия от реальности инобытия, предназначено жить народам, наделенным особым даром мистического умозрения, экстатического и эсхатологического миросозерцания. Таковы скандинавы «эпохи викингов» со своим духовным вождем — воином и вечным странником, шаманом и поэтому богом Одином. Таковы саамы, ненцы и другие народы Арктики, чей духовный склад и весь кочевой образ жизни были воплощены в образе шамана, ведущего странников-номадов не по земле их тундры, но по космографии Мирового Древа — древа жизни и смерти, древа поэзии и познания. Таков, наконец, и русский народ — странник, который в поисках «последней, Божьей правды», Обетованной Земли Небесного Царства, Нового Иерусалима, поднялся до «высоких широт» мироздания, где ему в мистическом озарении, в молчаливой молитве (священномолчании — исихии) открылись запредельные светоносные уже не пространства, но просторы Севера, распахнулся весь «белый свет» и как небесные знамения обретенной реальности инобытия заполыхали зарницы полярного сияния.
Мистика Севера невыразима в понятийно-рассудочной форме, в сухих построениях логического мышления. Стихия Севера открывается человеку лишь в состоянии особого синергийного настроя его души, в экстатическом устремлении, в ми-фопоэтическом творчестве. Поэтому не случайно, что Север — это край Шаманов и Поэтов, творцов и хранителей его заповедной, сокровенной тайны. Ирландские друиды, филиды и барды, скандинавские скальды и северно-русские сказители-баюны (Бояны), саамские и ненецкие шаманы, финские, карельские, коми-зырянские колдуны — все эти жрецы и поэты Севера, посвященные в тайны мироздания и его «грамматики», священными письменами создавали миф Севера, слагали его вековечную сагу и сказку.
|
|
|
Одним из последних в исторической череде поэтов-мифотворцев и сказочников был Борис Шергин, для которого из всего «биармийского наследия» наиболее значимым являлся образ «Гандвика» — Белого моря. Этимология топонима или пела-гонима «Гандвик» связывается как со скандинавской, так и с финской языковой стихией. Образ Гандвика — «Колдовского залива» — занимал ключевое место в духовном пространстве Бориса Шергина, в его личностном самосознании и миросозерцании. Почти слепой старик, большую часть жизни вынужденно проживший в Москве, в непереносимом отрыве от своей малой и «милой родины», он обладал удивительным даром духовного преодоления пространства, позволяющим ему в состоянии молитвенного сосредоточения, поэтического умиления и восхищения Севером переноситься на берега родного Гандвика. «Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто взял меня и поставил на брега пресветлого Гандвика, родимого моего моря». Слепой, как все истинные поэты, Борис Шергин видел невидимые обычным зрением источники поэтического вдохновения, исходившие от «духа местности», очарованной «страны Финнов, живших во времена биар-мийских походов викингов на берегах Гандвика — «Колдовского залива». В инту-ициях Бориса Шергина образ Гандвика ассоциировался как с финно-карельской колдовской, поэтической землей рунопевцев «Калевалы», так и с молитвенным подвигом монахов Соловецкой обители, труженичеством всех святых, подвизавшихся в
 полуночных странах и пределах. Поэтому биармийский Гандвик для Бориса Шер-гина — это «Море Поэзии», а русское Белое море — «Море святости» («Святое море»). Святость Белого моря заключена уже в его определении: белый — цвет святости, которая сама есть целокупный, божественный Свет.
полуночных странах и пределах. Поэтому биармийский Гандвик для Бориса Шер-гина — это «Море Поэзии», а русское Белое море — «Море святости» («Святое море»). Святость Белого моря заключена уже в его определении: белый — цвет святости, которая сама есть целокупный, божественный Свет.
Обладая божественным даром прозрения, тончайшей синергийной мистической интуицией, Борис Шергин, возможно, одним из первых открыл, явил изначальность морской стихии в русской душе, ландшафтную географию которой и поныне неправомерно связывают с лесом и степью. Море образует самый глубокий пласт в геологии русской души, составляет ее «твердый фундамент», материк. Море всегда пребывало в русской душе как некое воспоминание о покинутой родине, и поэтому исторический путь России (ее путеводная идея) состоял в непрерывном движении к морю, к обретению утраченной земли обетованной. Дорога России к морю, к «берегам семи морей» — это одна из ипостасей ее дороги к Храму, который и открылся русской душе на Севере, на берегах Белого Студеного моря-океана, которое, как и пустыня, сокращает путь к Богу, и поэтому не зря русские поморы свято верили, что «кто в море не бывал, тот Богу не молился». Истинным молитвенником Русского Севера и его духовного сердца — Поморья был и остался великий в своей малости подвижник и певец морской Славы русского народа Борис Викторович Шергин.
Образ Бьярмаланда на протяжении всего XX столетия занимал исключительно важное место в историческом самосознании коми-зырян, точнее, того узкого круга коми интеллигенции, который в различных формах научного (археологического, этнологического, исторического, филологического) художественного (литературного, драматического, музыкального, живописного) творчества стремился сформулировать и эксплицитно выразить аксиомы и архетипы национального самосознания коми, его религиозно-мифологическую картину мира, выработать своеобразную «зырянскую идею». В истоках идеи любого народа, в «началах» его этнического самосознания всегда заложено стремление к самоопределению своего положения — места в «земном кругу» народов мира, в судьбах всемирной истории. И подобно тому, как «русская идея» зарождалась и получала оправдание, санкцию во времена всемирного потопа (родословное этногенеалогическое древо, восходящее к трем братьям — сыновьям Ноя), в событиях славянской смуты и призвания на Русь трех заморских братьев-варягов, коми-зырянская идея в XX веке в поисках фундаментальных начал своей истории, которые имели бы всемирно-историческое значение и признание, обратилась к известиям исландских саг и европейских хроник о стране бьярмов — Бьярмии. Важнейшим связующим звеном между мифической Бьярмией и историческими землями коми-зырян и пермяков — Пермью Вычегодской и Пермью Великой — явилась этимология слова «Bjarmar», обозначающего жителей Бьярмаланда. По авторитетному мнению современного исследователя, «наиболее вероятной этимологией этнонима bjarmar является его происхождение от прибалтийско-финского peramaa — " задняя земля, земля за рубежом". <... > Этот же корень лежит в основе русского Пермь, пермяк»47. Исходя из достаточно твердо установленного языкового соположения Бьярмии и Пермии, в новейшей историографии коми-зырян активно разрабатывается «биармийская мифология» как составная часть разбуженного российской Смутой национального самосознания народа коми. Важное место в этом процессе занимают извлеченные из-под тоталитарного цензурного
 спуда труды опальных творцов «зырянской идеи» — выдающихся выразителей национального сознания народа коми. Среди них особо выделяется фигура коми писателя, ученого и философа Каллистрата Жакова, которого еще при жизни величали «зырянским Ломоносовым». Подобно своим великим предшественникам Э. Лённ-роту, Ф. Крейцвальду и другим творцам литературно-фольклорных эпосов финно-угорских народов (финнов, карел, эстонцев, удмуртов, мордвы, мари), К. Жаков на основе изучения этнографической и фольклорной традиции создал коми литературный эпос («коми " Калевалу" »), названный им «Биармией», который тем самым соединяет «начала» и «концы» истории народов коми, а сама «мифологема Бьярмалан-да» становится сердцевиной его национального самосознания.
спуда труды опальных творцов «зырянской идеи» — выдающихся выразителей национального сознания народа коми. Среди них особо выделяется фигура коми писателя, ученого и философа Каллистрата Жакова, которого еще при жизни величали «зырянским Ломоносовым». Подобно своим великим предшественникам Э. Лённ-роту, Ф. Крейцвальду и другим творцам литературно-фольклорных эпосов финно-угорских народов (финнов, карел, эстонцев, удмуртов, мордвы, мари), К. Жаков на основе изучения этнографической и фольклорной традиции создал коми литературный эпос («коми " Калевалу" »), названный им «Биармией», который тем самым соединяет «начала» и «концы» истории народов коми, а сама «мифологема Бьярмалан-да» становится сердцевиной его национального самосознания.
Размышления о месте образа Бьярмаланда в духовной культуре народов Баренцева региона — это одновременно и философская рефлексия, исповедь самого автора, исследование географии и «археологии» своей северной, биармийской души, стремящейся к синергийному ответу на тот неисповедимый зов или вызов Севера, который составляет его мистическую сокровенную тайну, скрытую в мифологических образах райской страны бьярмов и Лукоморья.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Юдин А. В. Путь в «мир иной» в русских заговорах // Семиотика культуры. — Сык
тывкар, 1991. — С. 52.
2 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. — М., 1980. —
С. 368—404.
3 Дугин А. Г. Россия — Дева солнечная // Наука и религия. 1997. № 4. — С. 30.
4 Там же.
5 Снегирев ИМ. Русские простонародные предания и суеверные обряды. — М., 1838.
Вып. 3. — С. 79.
6 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. — М.,
1982. — С. 146.
7 Соловьев СМ. История России с древнейших времен. — М., 1988. Т. 1. — С. 215.
8 Иванов Вяч. Вс, Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. — М.,
1974. — С. 123.
9 То же. — С. 124.
10 То же. — С. 125.
11 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. — М., 1986. — С. 136—137.
12 Соловьев СИ. История России... Т. 1. — С. 138.
13 То же. — С. 148.
14 Коринфский А. А. Народная Русь... — С. 552.
15 Там же.
16 То же. — С. 545.
17 Иванов Вяч. Вс, Топоров В. Н. Соловей-разбойник // Мифы народов мира. — М.,
1988. Т. 2. — С. 460.
18 Иванов Вяч. Вс, Топоров В. Н. Исследования... — С. 179.
19 Путилов Б. Н. Застава богатырская. — Л., 1990. — С. 140.
20 Личутин В. В. Дивись-Гора. — М, 1986. — С. 200—201.
21 Соловьев СМ. История России... Т. 2. — С. 638.
22 То же. — С. 631.
23 То же. — С. 629.
24 То же. — С. 632.
25 Рыбаков Б. А. Слово о полку Игореве и его современники. — М., 1971. — С. 60.
26 То же. — С. 59.
27 То же. — С. 60.
28 Успенский Б. А. Филологические разыскания... — С. 56.
29 Рыбаков Б. А. Слово... — С. 64.
30 То же. — С. 55.
31 То же. — С. 66.
32 То же. — С. 67.
33 Карамзин Н. М. История государства Российского. — М, 1988. Т. 2. — С. 28.
34 Дмитриев Л. А. Откровение Мефодия Патарского // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. — Л., 1987. — С. 283-284.
35 Плигузов А. И. Текст-кентавр о сибирских самоедах. — М., 1993. — С. 38.
36 Аверкий (архиепископ). Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова. —
М., 1991. — С. 69—70.
37 Успенский Б. А. Филологические разыскания... — С. 144.
38 Плигузов А. И. Текст-кентавр... — С. 23—24.
39 То же. — С. 72—73.
40 Коринфский А. А. Народная Русь... — С. 549.
41 Максимов СВ. Год на Севере. — Архангельск, 1984. — С. 394.
42 Овсянников О. В. Средневековые города Архангельского Севера. — Архангельск,
1994. — С. 273.
43 Максимов СВ. Год на Севере... — С. 365.
44 Тунгусов А. В. Поездка в прошлое // Костер и светильник. — Тула, 1993. — С. 141.
45 Тульчинский В. Л. Город-испытание // Метафизика Петербурга. — СПб., 1993. —
С. 148.
46 Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этно
графическом применении. — СПб., 1885. — С. 16.
47 Мельникова Е. М. Древнескандинавские географические сочинения. — М., 1986. —
С. 200.

|
|
|
|
РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ РУССКОГО СЕВЕРА
Крест
Если процесс освоения макропространств Севера отражал центробежные «страннические» устремления русской души, направленные на уход от мира сего и открытие запредельных горизонтов «иного» мира, то доместикация микротопографии основывалась на центростремительных, домостроительных началах и связывалась с идеями устроения «земли». Обустройство, обновление малого мира шло вслед за покорением большого мира, дополняло его, но в то же время несколько снижало, приземляло «неземной», неотмирный пафос русского движения «на Восток». «Обмирщение» процесса освоения северных просторов выражалось в известной противоречивости между идеалами пустынножительства и образами крестьянского земства. Основатель пустыни «некогда ушел в лес, чтобы спастись в безмолвном уединении, убежденный, что в миру, среди людской " молвы", то невозможно. К нему собирались такие же искатели безмолвия и устрояли пустынку. Строгость жизни, слава подвигов привлекали сюда издалека не только богомольцев и вкладчиков, но и крестьян, которые селились вокруг богатевшей обители как религиозной и хозяйственной своей опоры, рубили окрестный лес, ставили починки и деревни, расчищали нивы и " искажали пустыню", по выражению жития преп. Сергия Радонежского»1. Однако «искажение пустыни» вовсе не означало, что между монастырской и крестьянской колонизацией Севера существовал какой-то непреодолимый, трагический разлад, но оно представляло собой необходимый момент остановки, оплот-нения, материализации религиозно-духовного движения русского народа к берегам Студеного моря.
Центральным символом, путеводным знамением этого движения, связанного с сакрализацией пространства полуночных стран, являлся образ Креста. «В отличие от круга и квадрата, главная идея которых в качестве мифологических знаков состоит в разграничении внутреннего и внешнего пространства, крест подчеркивает идею центра и основных направлений, ведущих от центра (изнутри во вне). Конституи-рование зримого центра в Кресте ставит дополнительный акцент на том, что является высшей ценностью системы, что иерархизирует и сакрализует все пространство, определяя в нем линии и направления связей и зависимостей. Максимум сакральной силы Креста полагается в том сакральном пространственном центре и в тот сакрально отмеченный момент, где и когда Крест обретен, испытан и воздвигнут»2. Крест как одно из наиболее полных воплощений образа мирового древа обладал воистину неисчерпаемым преобразовательным смыслом, являлся идеальной моделью для описания пространственной организации всего тварного мира, служил эталоном и мерой всех вещей. По словам Святителя Григория Нисского, апостол Павел, «восхищенный в притворы рая», каждой из частей образа Креста «усваивает особое наименование, а именно: ту, которая нисходит из середины, называет глубиной, идущую вверх — высотой, обе же поперечные — широтой и долготой. Этим он, как мне кажется, ясно хочет выразить, что все, что ни есть во вселенной, превыше ли небес, в преисподних ли, или на земле от одного края ее до другого, — все
ЮЗак. 519
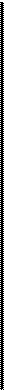 это живет и пребывает по Божественной Воле — под осенением крестным. Можешь еще созерцать божественное и в представлениях души твоей: воззри на небо и умом обними преисподнюю, простри мысленный взор твой от одного края земли до другого, помысли при этом и о том могучем средоточии, который все это связывает и содержит, и тогда в душе твоей само собою вообразится очертание Креста, простирающего свои концы сверху вниз и от одного края земли до другого»3.
это живет и пребывает по Божественной Воле — под осенением крестным. Можешь еще созерцать божественное и в представлениях души твоей: воззри на небо и умом обними преисподнюю, простри мысленный взор твой от одного края земли до другого, помысли при этом и о том могучем средоточии, который все это связывает и содержит, и тогда в душе твоей само собою вообразится очертание Креста, простирающего свои концы сверху вниз и от одного края земли до другого»3.
Крест как «могучее средоточие», которое все связывает и все в себе содержит, обладал неизмеримой творящей, порождающей энергией, представлял собой священный «свиток» мирового пространства. Все пространство христианского космоса сводимо к образу Креста и выводимо из Него. Поэтому процесс сакрализации (духовного освоения) просторов Севера заключался в пространственно-временном развертывании образа Креста, который, обрастая различными архитектурными и художественными деталями, последовательно претворялся в более сложные (не по смыслу, а по форме) сакральные объекты: часовню — храм — монастырь.
Воздвижение креста на вновь открытой («обретенной») земле являлось исходным моментом формирования священной топографии. Русские землепроходцы, осваивавшие пространства Севера, на местах своих новых поселений «ставили большой деревянный крест и при нем какую-либо икону. Для защиты от дождя и снега над крестом устрояли досчатый футляр, являлось нечто вроде часовни. С увеличением населения, а также в память какого-либо события, жители строили уже настоящую часовню»4. По прошествии определенного времени на месте часовни или рядом с ней возводился храм. Этот процесс последовательного развертывания («возвращения») часовни и храма из образа Животворящего Креста нашел свое явное, богословски осмысленное выражение в истории строительства северных монастырей. Наиболее ярким примером сознательного претворения образа Креста в архитектурном ансамбле северных обителей является строительная деятельность патриарха Никона, основавшего на одном из островов Белого моря монастырь, главной святыней и символом которого стал образ Креста.
Крест как исходная архитектурная праформа, из которой могут быть развернуты ее более сложные дериваты (часовня, храм), не только проник в высокие сферы монастырского строительного богословия, но лежал и в основе народных храмо-строительных традиций, о чем свидетельствуют переписные книги часовен Холмогорской епархии, составленные по распоряжению архиепископа Афанасия в 1692 году. В переписной книге Верщинской волости указывается «часовня на плесе у креста во имя Воздвиженья Честнаго Креста... »5. Развертывание священной триады (крест—часовня—храм) прослеживается и в описании часовен Пучужской волости: «Toe же Пучужские волости часовня близ церкви на церковной земле, а построена в 198 году по обещанию от того случая, что стоит на том месте крест... »6. В той же волости отмечена часовня, построенная «от того случая, что истари бывала на том месте часовня Дмитрия Селунского и та часовня перевезена и построена в той волости церковь, и после того времени стоял на том месте крест... »7. В переписных книгах часовен часто встречается выражение: «а построена та часовня в давних летах до церковного строения», указывающее на преемственную связь часовни и церкви.
Однако отношения между элементами священной триады характеризуются не только количественным возрастанием (развертыванием), переходом от «простого»
(Крест) к «сложному» (Храм), но и обратным процессом свертывания пространства к своему духовному центру — первообразу. В качестве примера подобного свертывания сакрального пространства можно привести историю с переносом в 1672 году церкви Воздвижения в Архангельске на новое место. После ее перенесения было издано распоряжение церковных властей о том, чтобы там, «где была церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня на престольном месте обруб срубить и крест поставить, чтоб к тому престольному месту никакая скверность не прикасалась»8. Операции свертывания и развертывания сакрального пространства, воплощенного в определенных культовых объектах, отмечены не только в христианской, но и во многих других религиозно-мифологических традициях. В частности, подобные правила обращения с пространством лежат в основе удмуртских ритуалов, связанных со строительством и разрушением домашнего храма — куалы. После сооружения новой куалы в нее переносились наиболее значимые сакральные ценности старого святилища (части надочажного устройства, камни очага и воршудный короб). В случае, «если по той или иной причине вотяк должен бывает нарушить куалу, то на месте ее он ставит маленький столбик, кругом его складывает все камни куалы, а на верх полагает воршудный короб»9. Сведение и выведение сакрального пространства куалы из своих порождающих первоэлементов (очаг и воршуд) представляет собой полнейшую аналогию преобразовательным функциям образа Креста. Это свидетельствует не только о некоторых универсальных законах и принципах организации сакрального пространства, но и о наличии в любой традиционной культуре таких фундаментальных образов и символов, к которым может быть сведено все многообразие ее внешних проявлений.
|
|
|




