 |
«Языки» арктического пространства 3 страница
|
|
|
|
Крест как один из ключевых символов православной культуры занимал центральное место в сакральной топографии Русского Севера, являлся обязательным компонентом его архитектурно-природного ландшафта. Путешествуя в 1928 году по Мезени, этнограф-фольклорист Н. П. Колпакова записала в своем полевом дневнике: «По пути в разных местах — на угорах, на откосах, на вершинах обрывов — часто попадаются прихотливо разбросанные старые деревянные кресты... Такой крест иногда обозначает чью-либо одинокую могилу, но чаще это просто придорожные кресты... Кое-где они остались на месте бывших часовен. Часовня развалилась — новую не рубят. Остается на угоре только большой, издали видный крест»10.
Крест являлся одним из воплощений образа мирового древа. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «Древо жизни, насажденное Богом в раю, предизобра-зило этот Честной Крест»". Связь образа Креста с универсальной концепцией устройства мироздания обусловила его полисемантичность и полифункциональность. Кстати сказать, это относится не только к Кресту, но и ко всем другим производным от него атрибутам христианского культа. «Почему престол и прочия церковные вещи и утвари имеют различные знаменования? Причина почему св. Престол, а равным образом жертвенник и все прочие утвари, как-то: чаша, дискос, покровы, епископское, священническое и диаконское облачения и пр. имеют разные знаменования, что мы увидим в чине литургии Златоуста заключается в следующем. В продолжение литургии вспоминаются многие события из жизни Иисуса Христа: но как невозможно употреблять при этом богослужении соответствующее числу воспоминаемых событий количество вещей, то является необходимость приписывать одной и той же вещи многие знаменования... »12. «Многознаменность» атрибутов
|
|
|
 христианского культа не связана, безусловно, с утилитарными соображениями неудобства, а является универсальным свойством любых сакральных предметов, возводимых к своему конструктивному Первообразу (мировое древо, Крест и т. п. ). Полисемантичность, полифункциональность образа Креста в православной культуре затрудняет классификацию деревянных крестов Русского Севера. Вместе с тем изучение мотивации возведения крестов и их пространственной локализации позволяет выделить их доминантные функцию и семантику, которые и лежат в основе существующих классификаций деревянных крестов Русского Севера. «Мотивацион-ная» (функциональная) классификация разделяет все кресты на следующие группы: «обетные», приметные (навигационные), поминальные, надмогильные (кладбищенские), поклонные и др. 13. Пространственная классификация крестов предполагает их деление на придорожные, прибрежные, «росстанные», полевые, луговые, лесные и т. п.
христианского культа не связана, безусловно, с утилитарными соображениями неудобства, а является универсальным свойством любых сакральных предметов, возводимых к своему конструктивному Первообразу (мировое древо, Крест и т. п. ). Полисемантичность, полифункциональность образа Креста в православной культуре затрудняет классификацию деревянных крестов Русского Севера. Вместе с тем изучение мотивации возведения крестов и их пространственной локализации позволяет выделить их доминантные функцию и семантику, которые и лежат в основе существующих классификаций деревянных крестов Русского Севера. «Мотивацион-ная» (функциональная) классификация разделяет все кресты на следующие группы: «обетные», приметные (навигационные), поминальные, надмогильные (кладбищенские), поклонные и др. 13. Пространственная классификация крестов предполагает их деление на придорожные, прибрежные, «росстанные», полевые, луговые, лесные и т. п.
Анализ топографии деревянных крестов Русского Севера позволяет раскрыть пространственные функции креста, а также архаическую религиозно-мифологическую семантику той части пространства, которую он освящает и преображает. Наиболее полное описание топографии крестов содержится в работе П. С. Ефименко: «Кроме сооружения церквей, часовен, у народа есть весьма распространенный обычай — ставить деревянные кресты и столбы, называемые часовенками. Их ставят по краям улиц, при въездах в деревни, на дорогах, при перекрестках на почитаемых почему-либо местах, на сенокосах, в лесных рощах и других пустынных местах... »14. Помимо отмеченных локусов, деревянные кресты воздвигались также на берегах рек и морей, на островах, в священных рощах, около мостов и источников и т. д.
Одним из наиболее значимых мест воздвижения креста являлся перекресток. Соположение образов креста и перекрестка объясняется не только их этимологической связью, но имеет и более глубинную религиозно-мифологическую природу. В славяно-русском язычестве перекресток («росстань», «распутье») наделялся нечистой, хтонической семантикой и связывался с представлениями об ином мире, о границе, разделяющей мир живых и мир мертвых. Наряду с некоторыми другими локусами топографии Русского Севера (лесом, болотом, баней и т. п. ) «распутье» относилось к «дурному» пространству: «Нередко особые объекты указывают на переход к этим неблагоприятным местам или же нейтрализуют их (ср. роль креста, позже храма, часовни и т. п. )»15. Поэтому функции креста, стоящего на перекрестке, заключаются, во-первых, в том, что он является предупредительным знаком (сигналом опасности), а во-вторых, будучи христианским символом, крест нейтрализует нечистую языческую семантику «распутья», «обращает» ее в элемент православного космоса.
|
|
|
Однако, устанавливая принципиальные различия христианского креста и «языческой» росстани, нельзя не указать и на их функциональную и семантическую близость. Как крест, так и росстань в топографии Русского Севера обладали ярко выраженными рубежными свойствами и отмечали границу поселения, которая в мифопоэтическом сознании отождествлялась с границей того и этого света, мира живых и мира мертвых, человеческого сообщества и «звериного царства». Поэтому крест и перекресток были тесно связаны с религиозно-мифологическим мотивам выбора жизненного пути, судьбы, жизни и смерти. «Крестцы или перекрестки, на славянском распутье, исходища путей, представляют нам ближайшее их сходство с
течением жизни человеческой. Там из одного исходища, как средоточия своего, пути расходятся в разные стороны. Такие места у древних народов почитались угодными богам... »16. «Человек мифопоэтического сознания стоит перед крестом как перед перекрестком, развилкой пути, где налево — смерть, направо — жизнь, но он не знает, где право и где лево в той метрике мифологического пространства, которое задается образом креста. Общеизвестна роль перекрестка... как выбора между жизнью и смертью в сказках, героическом эпосе, заговорах, бытовом поведении и т. д. (перекресток — переход из одного царства в другое, и добро и зло пытаются контролировать его... )»17.
|
|
|
Окраинное положение перекрестка-росстани на границе мира живых и мира мертвых обусловило его важную роль в погребальном ритуале. Так, например, вещи, использовавшиеся в процессе подготовки похорон (стружки от гроба, гребень, мыло, горшок и т. д. ), относили «на границу владений соседней деревни», «на перекресток дорог»18. Односельчане «провожают покойника из деревни до первых крестов — т. е., где первое раздвоение дороги; кресты эти называют " покойничьи" 19. Ритуальные проводы покойного «на тот свет» до околицы, «до первых крестов» имели и свою бытовую подоплеку в широко распространенном на Руси обычае проводов гостей, родичей, странников до перекрестка, который потому и назывался «росстанью», что на этом месте расставались, прощались, то есть просили друг у друга прощения. В древности на перекрестках-росстанях хоронили так называемых «нечистых», «заложных» покойников, то есть людей, умерших неестественной («не своей») смертью. Поэтому во время поминок «по опившимся ставят на раздорожье сорок деревянных крестов»20. Каждый из этих сорока крестов фиксирует ежедневный отрезок пути, пройденный душой «заложного», и призван облегчить его переход на тот свет.
Перекресток являлся не только местом прощания живых и мертвых, но и местом их встречи. Поэтому, если вдову в сновидениях начинает посещать бес в образе ее покойного мужа, «нужно идти на " кресты" (к часовне), скинуть там рубаху, в которой бес маял, и протащить рубаху всей деревней, или повесить холст на крест или колокола... Чтобы не тосковать по покойнике рекомендуется ходить по три зори на кресты (на перекресток дорог)... »21.
Перекресток осмыслялся и как граница, разделяющая живых и мертвых, и как центр иного, загробного мира. В этом смысле он уподобляется кладбищу, на котором «гадают под новый год: слушают припавши ухом к могиле, предварительно очертив около себя на снегу круг. Гадают также на " покойничьих крестах" (на перекрестках)»22. Соположение двух, казалось бы далеких, локусов (перекрестка и кладбища) раскрывает глубинную семантику ритуала гадания как испрашивания ответа на искомый вопрос у предков. Но для того, чтобы узнать свою судьбу, необходимо было вступить в контакт с душами мертвых, то есть совершить путешествие на тот свет. Одним из таких локусов иного мира в мире людей и являлся перекресток, где совершались наиболее страшные гадания. Путешествие в иной, «нечистый», мир предполагало отречение загадчика от «русского» (православного) мира. В ритуале гадания это достигалось снятием нательного креста и его попранием. Переход загадчика в иной мир символизировался установлением символической границы, троекратного очерчивания магического круга, обводимого «против солнца». Участники ритуала, войдя в центр «противного» круга, призывали беса и от-
|
|
|
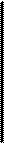 рекались от Бога («бес в кругу, Бог — по закругу»). Тем самым в обряде гадания происходило выворачивание наизнанку повседневных, «правильных» пространства и времени. Внешнее (бесовское) пространство врывалось в центр православного космоса, вытесняло его на периферию, а время оборачивалось вспять, возвращалось к первобытному языческому хаосу. Оборотническая сущность ритуала гадания, отказ от ценностей православного мира проявлялись и в изменении загадчиком своего человеческого лика, превращавшегося в личину беса. Инверсия всех норм, ценностей, статусов пронизывает все обряды, входившие в целостный комплекс святочного первопраздника как времени всемирного распада и разлома, когда стираются различия между полами, а сам человек добровольно принимает на себя образ «зверя»: «В святки переряживаются. Этот обычай состоит в том, что делаются шулико-нами, т. е. мужчины меняются одеждою своей с женщинами, а женщины с мужчинами; кроме того маскируются иные; надевают звериные шкуры, лицо свое марают сажею, представляют живые чучелы: быков, коров, лошадей и т. п. »23. Однако даже в безудержной вахканалии святочного бесчинства и распутства существовали определенные ритуальные рамки, разрушение которых грозило бы выходом за пределы допустимого (праздничного) пространства, в безысходный хаос бесовского, зверин-ского царства. Неконвенциональность святочного поведения проявлялась в страхе перед маской-личиной: «Маски не носят из боязни дьявола, так как надеть маску — значит одеть лицо черта»24. Те же «праздные», «беспутные» люди, которые ходили в святки шуликонами, во время праздника Богоявления «раздеваются" до нага и купаются в прорубях (майнах), на месте Иордана, не смотря ни на какую суровую погоду, дабы освященною водою смыть с себя личину беса»25.
рекались от Бога («бес в кругу, Бог — по закругу»). Тем самым в обряде гадания происходило выворачивание наизнанку повседневных, «правильных» пространства и времени. Внешнее (бесовское) пространство врывалось в центр православного космоса, вытесняло его на периферию, а время оборачивалось вспять, возвращалось к первобытному языческому хаосу. Оборотническая сущность ритуала гадания, отказ от ценностей православного мира проявлялись и в изменении загадчиком своего человеческого лика, превращавшегося в личину беса. Инверсия всех норм, ценностей, статусов пронизывает все обряды, входившие в целостный комплекс святочного первопраздника как времени всемирного распада и разлома, когда стираются различия между полами, а сам человек добровольно принимает на себя образ «зверя»: «В святки переряживаются. Этот обычай состоит в том, что делаются шулико-нами, т. е. мужчины меняются одеждою своей с женщинами, а женщины с мужчинами; кроме того маскируются иные; надевают звериные шкуры, лицо свое марают сажею, представляют живые чучелы: быков, коров, лошадей и т. п. »23. Однако даже в безудержной вахканалии святочного бесчинства и распутства существовали определенные ритуальные рамки, разрушение которых грозило бы выходом за пределы допустимого (праздничного) пространства, в безысходный хаос бесовского, зверин-ского царства. Неконвенциональность святочного поведения проявлялась в страхе перед маской-личиной: «Маски не носят из боязни дьявола, так как надеть маску — значит одеть лицо черта»24. Те же «праздные», «беспутные» люди, которые ходили в святки шуликонами, во время праздника Богоявления «раздеваются" до нага и купаются в прорубях (майнах), на месте Иордана, не смотря ни на какую суровую погоду, дабы освященною водою смыть с себя личину беса»25.
|
|
|
Подобный тип изнаночного, оборотнического поведения был характерен не только для участников святочного карнавала, но и вообще для любого человека, находящегося на распутье, где вступают в свои права законы нечеловеческого антимира: «Ведь не только в географическом макропространстве, но и в микропространстве, связанном с обычным, повседневным бытом, сосуществуют " чистые" и " нечистые" места, причем последние (к ним относятся, например, баня, овин, болото, лес, распутье и т. п. ) рассматриваются как область, подвластная нечистой силе. Пребывание в " нечистом" месте, как и пребывание в " нечистом" времени, в принципе обусловливают непременное отклонение от нормы поведения. Тем самым, повседневный бытовой уклад оказывается связанным с чередованием " правильно-" го" и " неправильного" поведения или, в иных терминах и другой перспективе, поведения и анти-поведения; в процессе жизни человек попеременно оказывается то в " чистом", то в " нечистом" месте или времени, соответственно меняя свой образ действий и подчиняясь кардинально противоположным стереотипам. Поведение и анти-поведение предстают, таким образом, как взаимодополняющие друг друга компоненты русской культурной жизни»26.
Таким образом, анализ различных ритуально-мифологических мотивов, связанных с «распутьем» — «росстанью», позволяет сделать вывод о полифункциональности и полисемантичности креста, стоящего на перекрестке. Росстанный крест — это прежде всего пограничный знак, указывающий на пределы православного мира деревни, окруженного хаосом грешного, бесовского антимира. Это символ торжества христианского «перекрестка» над языческой природой «распутья». Крест, стоящий на околице деревни, постоянно напоминает страннику, покидающему «этот»
мир, о неисповедимости путей Господних, о необходимости выбора единственно правильного жизненного пути.
Образ крестного пути, начинавшегося на перекрестке, развертывался в пространстве и воплощался в нескончаемой череде крестов, стоявших вдоль дорог. Функции и семантика придорожных крестов тесно связаны с религиозно-мифологическим образом «пути-дороги»: «Путь — в мифопоэтической и религиозной моделях мира — образ связи между двумя отмеченными точками пространства. Постоянное и неотъемлемое свойство пути — его трудность. Путь строится по линии все возрастающих трудностей и опасностей, угрожающих мифологическому герою-путнику, поэтому преодоление пути есть подвиг, подвижничество путника»27. Религиозно-мифологический образ пути, вырастающий до божественных высот «крестного пути», являлся ключевым символом русского пространственного менталитета, который прослеживается как в формах православного поведения (паломничество, крестный ход и т. п. ), так и в ритуальной традиции, восходящей к временам язычества. Образ пути-дороги как космической оси, связующей разные зоны мироздания, занимал важное место в славяно-русских обрядах жизненного цикла. В представлениях русского народа «по смерти человеку предстоит далекое трудное странствование по незнакомой дороге в страну предков»28. Отдаленность страны предков, «незнаемость» ведущих в нее путей предопределили обязательное использование в погребальном ритуале специальных транспортных средств, обладавших магическими свойствами («самоходные сани» и т. д. ). В Вельском уезде «покойника возили к церкви зимой и летом на дровнях, которые потом, на обратном пути, недалеко от дома оставались до сорокового дня опрокинутыми вверх полозьями и с обернутыми назад оглоблями; при этом верили, что до сорокового дня мертвец каждонощно приходит к дровням, на коих везен был на кладбище, намереваясь ехать домой, но найдя оглобли обороченными, возвращается в могилу»29. В славяно-русской традиции сани и лодка являлись универсальными ритуальными транспортными средствами, были обязательной принадлежностью похоронного обряда: «В старину покойников даже летом везли на кладбище в санях: по-видимому, для этого избрали именно сани как древнейший вид повозки. В Олонецкой губ. этот обычай существовал еще недавно, и сани можно было заменить лодкой только при перевозках по рекам и озерам»30. Похоронные функции саней и лодки обусловлены вовсе не тем, что они являлись «древнейшим видом повозки», а «зимним» и «водным» характером дороги, ведущей в мир мертвых. Вечно «зимней» природе загробного царства соответствует образ перевернутых саней, оставляемых на кладбище. Этот образ является частным случаем той тотальной инверсии всех пространственных отношений, которая моделирует состояние распавшегося мира, вызванное смертью причастного судьбам космоса человека. В Череповецком уезде «тотчас по выносе покойника из избы оставшиеся дома «перекубыркивали» (опрокидывали ножками кверху) лавки, а затем мели и мыли пол, двери, окна, притом мести пол следовало от места, где лежал покойник, к порогу, а не иначе»3'. «Перекубыркнутый» мир мертвого дома являлся исходной и конечной точкой путешествия души покойного на «тот свет», где люди живут «верх ногами».
Ритуально-мифологический образ «последнего пути» воплощается не только в специальных транспортных средствах, но и во всех других атрибутах, причастных проводам на тот свет. Среди них особое место занимает прибитое к стене дома
 полотенце, которое «показывает, что в доме кто-то умер. Можно предполагать, что первоначально это полотно вывешивали из жилых помещений, с целью облегчить душе умершего как выход из дома, так и возвращение в него. Северорусские Олонецкой губ., после того как поминки, устроенные после заупокойной службы, закончены и гостям говорят: " Сейчас вам самое время домой идти, ступайте с Богом", вывешивают за открытое окно кусок полотна. При этом берется кусок того полотна, на котором покойника опускали в могилу»32. Полотенце — это не просто знак смерти, но образ мировой связи, космического «пути-дороги». В погребально-поминальном обряде ткань полотенца превращается в «полотно» дороги, по которой уходит умерший и по которой на поминальный пир являются незваные гости из незнаемых земель мертвого царства. После завершения пира им указывают на дорогу, вывешивая из окна погребальное полотенце, по которому опасные гости покидают этот мир, сопровождаемые напутствием оставшихся (в живых) — «скатертью — дорога».
полотенце, которое «показывает, что в доме кто-то умер. Можно предполагать, что первоначально это полотно вывешивали из жилых помещений, с целью облегчить душе умершего как выход из дома, так и возвращение в него. Северорусские Олонецкой губ., после того как поминки, устроенные после заупокойной службы, закончены и гостям говорят: " Сейчас вам самое время домой идти, ступайте с Богом", вывешивают за открытое окно кусок полотна. При этом берется кусок того полотна, на котором покойника опускали в могилу»32. Полотенце — это не просто знак смерти, но образ мировой связи, космического «пути-дороги». В погребально-поминальном обряде ткань полотенца превращается в «полотно» дороги, по которой уходит умерший и по которой на поминальный пир являются незваные гости из незнаемых земель мертвого царства. После завершения пира им указывают на дорогу, вывешивая из окна погребальное полотенце, по которому опасные гости покидают этот мир, сопровождаемые напутствием оставшихся (в живых) — «скатертью — дорога».
Мифологема «пути-дороги» занимала ключевое место и в пространственной организации восточно-славянского свадебного обряда33. Столь значимая роль мотива дальней дороги в сюжете свадебного ритуала объясняется тем, что в соответствии с мифологическими представлениями дом невесты находится в ином мире, и для ее добывания-похищения необходимо совершить длительное путешествие, сопряженное с трудными и опасными для героя-жениха испытаниями. Поэтому свадьба, как и похороны, предполагает наличие специальных транспортных средств, составляющих свадебный поезд. В северно-русском свадебном ритуале отмечен любопытный обычай тянуть в баню на санях родителей жениха или невесты в последний день свадьбы34. Поездка стариков на санях в баню в последний день свадьбы является пародийной (изнаночной) репликой поездки молодых на лошадях в церковь в первый день свадьбы. Однако пародия эта имела глубоко серьезный, трагический смысл, связанный с незаметным переходом свадьбы в похороны, когда на глазах пирующих гостей церковь превращалась в баню, а молодые — в стариков. Свадебный поезд вдруг оказывался погребальными дровнями, на которых «состарившиеся молодые» в последний день свадьбы отправляются в «последний путь». Мотив «санной» смерти прослеживается и в древнерусском ритуале наказания на санях, которое «воспринимается как символическая смерть»35. «Преступник» — это человек, преступивший установленную границу, которая разделяет добро и зло, жизнь и смерть. Поэтому преступление означает переход в царство смерти, а ритуал наказания — это проводы преступника на тот свет и его возвращение-перерождение, вступление на праведный путь. Опасное свойство дороги как пути, ведущего в незнаемые земли мертвого царства, породило широко известный у разных народов России запрет строить новый дом на дороге или тропинке. В частности, он отмечен у восточных славян, у финно-угорских народов Севера и Поволжья. В наиболее эксплицитной форме религиозно-мифологическая мотивация запрета возводить новый дом на дороге выражена в мордовском строительном ритуале: «Нельзя селиться там, где раньше дороги были. Там покойников таскали — будут чудиться». Мотивировка запрета строить новый дом на дороге («там покойников таскали — будут чудиться») указывает на связь дороги с представлениями о мире мертвых. В мифологической картине мира любая дорога отождествлялась с дорогой предков, то есть с дорогой, ведущей в мир мертвых. Не случайно, что, например, у удмуртов
существовали специальные «дорожные» обряды, направленные на нейтрализацию опасных свойств этой части пространства. Смысл этих обрядов сводился к задабриванию умерших, которые по дороге предков могли вторгнуться в мир живых людей36. Представления об опасности, исходившей от пути-дороги, нашли отражение не только в обряде, но и в этикете. На Русском Севере широко бытовал обычай банного гостеприимства. Странник-гость, явившийся из нечистого пространства внешнего мира, обязательно должен был омыться, очиститься от дорожной скверны. Баня превращалась для путника в сосуд, наполненный мертвой и живой водой, омывшись которой он умирает и возрождается новым, «чистым» человеком.
Таким образом, анализ ритуально-мифологических мотивов, связанных с образом пути-дороги, позволяет сделать некоторые выводы относительно функций и семантики придорожных крестов, определить их место в сакральной топографии Русского Севера. Если в «росстанном» кресте актуализированы маргинальные и апотропеические функции, то придорожный крест — это прежде всего путеводный знак, дорожный указатель. Функции придорожных крестов можно было бы сопоставить с функциями их десакрализованных субститутов — верстовых столбов, размеряющих пространство дороги, задающих ритм и направление движения. Но если регулярно расставленные верстовые столбы (подобно петровскому «столетнему» исчислению — расчленению времени) «убивают» сакральный смысл пространства дороги, то иррегулярно стоящие придорожные кресты наделяют его священным пафосом Пути, ведущего на Голгофу смерти и воскресения.
Путеводной семантикой наделялись не только придорожные кресты, но и кресты, воздвигавшиеся по берегам рек и морей. Семантическая и функциональная идентичность придорожных и прибрежных крестов была обусловлена мифологическим тождеством освящаемых ими топографических объектов: «Река — важный мифологический символ, элемент сакральной топографии. В ряде мифологий, прежде всего шаманского типа, в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, выступает т. н. космическая (или мировая) Р. Она обычно является и родовой (или шаманской) Р. Иногда ее составной частью бывает символически переосмысленная реальная главная Р. данного региона»37. Образ космической реки, связующей разные зоны мироздания, занимал важное место в сакральной топографии Русского Севера. Река являлась одним из центральных элементов пространственной организации обрядов жизненного и календарного циклов. Поскольку в соответствии с мифопоэтическими представлениями мир мертвых располагался в устье реки, душа покойного должна была совершить путешествие в загробное царство, двигаясь вниз по течению реки. В северно-русской погребальной обрядности этот исход души знаменовался пусканием на воду ритуальных предметов, использовавшихся при снаряжении покойного на тот свет: «Солому или рогожу, на которой омывали покойника, кусочек мыла, гребень, которым расчесывали покойника, стружки от приготовленного гроба — домо-вища выбрасывают на берег реки, чтобы унесло при разливе воды, или прямо носят на воду»38. По свидетельству исследователя причитаний Русского Севера Е. В. Барсова, все атрибуты, связанные с подготовкой проводов на тот свет, бросают в озеро (реку) или отвозят в лес39. Река являлась не только путем-дорогой в иной мир, но и границей того и этого света. Поэтому в мифопоэтическом сознании важное место занимал мотив переправы через реку, преодоления водного рубежа. Этот мотив
 получил воплощение в образе перевозчиков через «огненную реку», функции которых в северном духовном фольклоре были усвоены архангелам Михаилу и Гавриилу. Центральным локусом сакральной топографии Русского Севера, с которым связывался мотив переправы через реку, являлся мост. Сакральный статус моста подчеркивался тем, что его строительство «сопровождалось особым ритуалом. По-видимому, не случайно строители моста — " мостовщики" в ряде традиций образуют не только профессиональную, но и конфессиональную группу... »40. Мост как образ связи между разными точками сакрального пространства занимал важное место в символике похоронно-поминального и свадебного обрядов. Функции моста как медиатора между миром живых и миром мертвых ярко раскрываются в старинном поморском обычае, «по которому жены погибших на море мужей должны выйти на мост (собственно на реку) и " вопить" во всеуслышание»41. Образ моста играл важную роль в свадебных гаданиях: «Кладется под подушку мостик из лучинок, чтобы суженый во сне провел по мосту. В данном случае перед нами, очевидно, те же символы, что и в песнях — " переход через реку", " питье воды" — те же символы любви. Представляется вероятным, что первоначально гаданье производилось на мосту или у моста, так как браки совершались у воды; здесь же у воды происходили игрища и поминания умерших. Поэтому нельзя не поставить здесь в связь обычая устраивать мосты по мертвым — " мосты чинят по мертвым" — обычай, и теперь существующий в Белоруссии»42. Мощение мостов в погребальном ритуале — это образ установления связи с сакральным пространством иного мира, куда отправляется умерший. Поэтому если для похорон актуальным является мотив строительства — возведения моста, то для свадьбы — его преодоления, разрушения. Погребальный обряд наделен устроительным пафосом. Он преодолевает инспирированную смертью «ненавистную раздельность мира», закладывает основы («мощи») нового миропорядка, наделяет его энергией («мощью»). Свадебный обряд, напротив, связывается с образами нашествия, вторжения, разрушения, подрыва основ («мостов» — «мощей»). Пограничные свойства моста, его одновременная причастность обеим частям универсума превращает мост в точку наивысшего сакрального напряжения, где сходятся разные силовые линии, где решаются последние (предельные) вопросы бытия. Отсюда проистекает и столь значимая роль моста в ритуальных поединках, в обрядах гадания. Наиболее хрестоматийный пример (но в то же время весьма актуальный для северно-русской традиции исторический прецедент) ритуального поединка на мосту — вечевые кулачные бои в Новгороде, разгоравшиеся на мосту через Волхов. Историческое предание связывает происхождение вечевых междоусобиц с временами крещения Руси, когда новгородцы «сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: " Вот вам, новгородцы, от меня на память". С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на волховском мосту и начинают драться, как бешеные»43. «Перуново заклятье», породившее традиции кулачного боя на волховском мосту, восходит, несомненно, к сюжету основного мифа о поединке между Громовержцем-Перуном и его противником Волосом, имя которого отложилось в сакральном гидрониме — Волхов. Мотивы и образы основного мифа отчетливо прослеживаются в масленичных ритуальных состязаниях, проходивших на реке. В Олонецкой губернии во время празднования масленицы «устраивается настоящее сражение, известное под невинным названием " игры в мяч". Состоит эта игра в следующем: в пос-
получил воплощение в образе перевозчиков через «огненную реку», функции которых в северном духовном фольклоре были усвоены архангелам Михаилу и Гавриилу. Центральным локусом сакральной топографии Русского Севера, с которым связывался мотив переправы через реку, являлся мост. Сакральный статус моста подчеркивался тем, что его строительство «сопровождалось особым ритуалом. По-видимому, не случайно строители моста — " мостовщики" в ряде традиций образуют не только профессиональную, но и конфессиональную группу... »40. Мост как образ связи между разными точками сакрального пространства занимал важное место в символике похоронно-поминального и свадебного обрядов. Функции моста как медиатора между миром живых и миром мертвых ярко раскрываются в старинном поморском обычае, «по которому жены погибших на море мужей должны выйти на мост (собственно на реку) и " вопить" во всеуслышание»41. Образ моста играл важную роль в свадебных гаданиях: «Кладется под подушку мостик из лучинок, чтобы суженый во сне провел по мосту. В данном случае перед нами, очевидно, те же символы, что и в песнях — " переход через реку", " питье воды" — те же символы любви. Представляется вероятным, что первоначально гаданье производилось на мосту или у моста, так как браки совершались у воды; здесь же у воды происходили игрища и поминания умерших. Поэтому нельзя не поставить здесь в связь обычая устраивать мосты по мертвым — " мосты чинят по мертвым" — обычай, и теперь существующий в Белоруссии»42. Мощение мостов в погребальном ритуале — это образ установления связи с сакральным пространством иного мира, куда отправляется умерший. Поэтому если для похорон актуальным является мотив строительства — возведения моста, то для свадьбы — его преодоления, разрушения. Погребальный обряд наделен устроительным пафосом. Он преодолевает инспирированную смертью «ненавистную раздельность мира», закладывает основы («мощи») нового миропорядка, наделяет его энергией («мощью»). Свадебный обряд, напротив, связывается с образами нашествия, вторжения, разрушения, подрыва основ («мостов» — «мощей»). Пограничные свойства моста, его одновременная причастность обеим частям универсума превращает мост в точку наивысшего сакрального напряжения, где сходятся разные силовые линии, где решаются последние (предельные) вопросы бытия. Отсюда проистекает и столь значимая роль моста в ритуальных поединках, в обрядах гадания. Наиболее хрестоматийный пример (но в то же время весьма актуальный для северно-русской традиции исторический прецедент) ритуального поединка на мосту — вечевые кулачные бои в Новгороде, разгоравшиеся на мосту через Волхов. Историческое предание связывает происхождение вечевых междоусобиц с временами крещения Руси, когда новгородцы «сбросили идол Перуна в Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами: " Вот вам, новгородцы, от меня на память". С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на волховском мосту и начинают драться, как бешеные»43. «Перуново заклятье», породившее традиции кулачного боя на волховском мосту, восходит, несомненно, к сюжету основного мифа о поединке между Громовержцем-Перуном и его противником Волосом, имя которого отложилось в сакральном гидрониме — Волхов. Мотивы и образы основного мифа отчетливо прослеживаются в масленичных ритуальных состязаниях, проходивших на реке. В Олонецкой губернии во время празднования масленицы «устраивается настоящее сражение, известное под невинным названием " игры в мяч". Состоит эта игра в следующем: в пос-

 ледний день масленицы парни и семейные мужики из нескольких окольных деревень сходятся куда-нибудь на ровное место (чаще всего на реку), разделяются на две толпы, человек по тридцать каждая, и назначают места, до которых следует гнать мяч (обыкновенно сражающиеся становятся против середины деревни, причем одна партия должна гнать мяч вниз по реке, другая вверх)... Необыкновенный азарт этого русского " лаун-тенниса" объясняется тем, что проиграть партию в мяч считается большим унижением: побежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их " киловниками" (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая верх презрения)»44. Ритуальный «футбольный» поединок, завершавшийся кулачным боем, строился на противопоставлении «верха» и «низа» реки, которое определяло «враждебный» характер отношений между жителями верхнего и нижнего концов деревни, между деревнями, расположенными в верховьях и низовьях реки («верховские» и «устьяне»). «Враждебность» речного верха и низа воплощалась не только в действенных, но и в словесных поединках, включавших взаимные оскорбления, осмеяния, уничижение.
ледний день масленицы парни и семейные мужики из нескольких окольных деревень сходятся куда-нибудь на ровное место (чаще всего на реку), разделяются на две толпы, человек по тридцать каждая, и назначают места, до которых следует гнать мяч (обыкновенно сражающиеся становятся против середины деревни, причем одна партия должна гнать мяч вниз по реке, другая вверх)... Необыкновенный азарт этого русского " лаун-тенниса" объясняется тем, что проиграть партию в мяч считается большим унижением: побежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их " киловниками" (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая верх презрения)»44. Ритуальный «футбольный» поединок, завершавшийся кулачным боем, строился на противопоставлении «верха» и «низа» реки, которое определяло «враждебный» характер отношений между жителями верхнего и нижнего концов деревни, между деревнями, расположенными в верховьях и низовьях реки («верховские» и «устьяне»). «Враждебность» речного верха и низа воплощалась не только в действенных, но и в словесных поединках, включавших взаимные оскорбления, осмеяния, уничижение.
В местническую тяжбу о главенстве вступали как разные части одной реки, так и все реки Русского Севера. В рассказе Б. В. Шергина «Корабельные вожи» воспроизводится местнический спор во время праздничного пира: «Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику 6 сентября. Кроме братчиков в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая " река" или " город" знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовой стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные реки. После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к воженому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте»45. Местническая иерархия пиршественного стола архангельских лоцманов (вожей) раскрывает местническую иерархию рек в исторической и сакральной географии Русского Севера, отражает основные направления и этапы его освоения.
Течение рек, несущих свои воды к Студеному морю-океану, определяло течение жизни северных крестьян, задавало ее ритм и направленность, оформляло представления о топографии микро- и макрокосма. Не случайно, что образ реки явился композиционным принципом организации фольклорных текстов в книге О. Э. Оза-ровской «Пятиречие»: «Начинается книга, называемая " Пятиречие", в которой заключается пятьдесят сказок, рассказанных пятью человеками, жившими на берегу одной из пяти северных рек»46. Несмотря на очевидные литературные истоки, сказочный образ северного Пятиречия содержит весьма архаичные религиозно-мифологические мотивы, в частности, мотив отождествления реки иречи: «Связь реки с речью принадлежит к числу архетипических образов»47. Выявлению этой связи посвящено небольшое эссе А. Синявского (А. Терца), которое было навеяно впечатлениями от путешествия по рекам Русского Севера и в котором развернута топография разных жанров русского фольклора: «Не знаю, как в других странах, но в России реки связаны с песней. Сказка уходит в лес. Былина (героический эпос) выезжает в чистое поле (на подвиг). А песня тяготеет к воде, к реке. Само определение река, на русский слух, предполагает речь, которая текуча, певуча»48. В мифо-поэтическом сознании связь реки и речи имеет двойственный характер. С одной стороны, речь порождается рекой (прорицания у священного источника). С другой
|
|
|


