 |
География и космография саамской культуры 2 страница
|
|
|
|
Приоритет дикого над домашним отразился в различном отношении к диким и домашним оленям. Дикий олень наделялся более высоким священным статусом. Поэтому при изготовлении шаманского бубна у ненцев «обычно использовалась шкура дикого оленя-самца»121. Употребление шкуры самца отражает общий принцип оценки «мужского» как более ценного и «чистого». Превосходство дикого над домашним, мужского над женским прослеживается и в традиционной культуре других самодийских народов, в частности, нганасан, у которых женщина при шитье своей обуви «не могла употреблять ниток из сухожилий дикого оленя и заменяла их су-
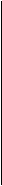 хожилиями домашнего. Ей запрещалось есть голову и язык дикого оленя, спать на его шкуре... »'22. У нганасан сохранился, вероятно, общий самодийский миф, описывающий ситуацию нарушения запрета на смешение сфер мужского и женского: «В старину у нганасанов женщины могли охотиться так же, как и мужчины. Они так увлекались охотой, что забрасывали свое домашнее хозяйство... Тогда мужчины посоветовались и решили унять женщин и снова заставить их заниматься домашним хозяйством. Поймали всех женщин и переломали у них луки. С тех пор у нганасанов женщины перестали охотиться и стали подчиняться мужчинам»123. Нганасанский миф об установлении (восстановлении) «патриархата» обосновывает существующее разделение труда и предостерегает от возможного запрета на мужские профессии для жентцин. Противопоставление дикого и домашнего, мужского и женского нашло свое отражение и в традиционной модели питания ненцев, которая строилась на оппозиции «сырое — вареное». Сырая пища входила в мужской рацион питания, вареная — в женский. Женщине «запрещалось есть сырое жертвенное мясо домашнего и дикого оленя. Можно было есть вареное медвежье мясо, но при условии, если она перед трапезой нарисует углем на лице усы и бороду, как бы станет чистой»124.
хожилиями домашнего. Ей запрещалось есть голову и язык дикого оленя, спать на его шкуре... »'22. У нганасан сохранился, вероятно, общий самодийский миф, описывающий ситуацию нарушения запрета на смешение сфер мужского и женского: «В старину у нганасанов женщины могли охотиться так же, как и мужчины. Они так увлекались охотой, что забрасывали свое домашнее хозяйство... Тогда мужчины посоветовались и решили унять женщин и снова заставить их заниматься домашним хозяйством. Поймали всех женщин и переломали у них луки. С тех пор у нганасанов женщины перестали охотиться и стали подчиняться мужчинам»123. Нганасанский миф об установлении (восстановлении) «патриархата» обосновывает существующее разделение труда и предостерегает от возможного запрета на мужские профессии для жентцин. Противопоставление дикого и домашнего, мужского и женского нашло свое отражение и в традиционной модели питания ненцев, которая строилась на оппозиции «сырое — вареное». Сырая пища входила в мужской рацион питания, вареная — в женский. Женщине «запрещалось есть сырое жертвенное мясо домашнего и дикого оленя. Можно было есть вареное медвежье мясо, но при условии, если она перед трапезой нарисует углем на лице усы и бороду, как бы станет чистой»124.
|
|
|
Медведь у ненцев считался священным животным, и поэтому употребление его мяса женщиной требовало от нее специального очищения, которое и достигалось символической инверсией (переменой) пола. Трудовая и пищевая табуация была лишь частью той тотальной системы запретов, которыми определялись границы женского поведения. Особо жесткой регламентации подвергалось пространственное поведение женщины. Она не могла пересекать дорогу, обходить вокруг чума, переступать на «чистую» половину жилища, переходить через мужские вещи, подходить к священным объектам и т. п. «Для того, чтобы перейти на противоположную сторону обоза, она должна была нагнуться, чуть ли не переползти, или перекинуть тягло через голову». «Женщина, проходя, должна бдительно смотреть под ноги, все убирать руками или обходить, а веревки и другие подобные предметы перебрасывать через голову»125. Другими словами, любое, самое незначительное, телодвижение женщины определялось строго разработанным сценарием, нарушение которого могло привести к наступлению хаотической ситуации (болезни, смерти, распаду социальных связей). В приведенных выше запретах прослеживается крайне существенное для понимания пространственного поведения женщины, да и всей традиционной культуры в целом противопоставление «верха» и «низа». (Женщина не могла переступать ногами через определенные предметы и должна была перебрасывать их через голову. ) Противопоставление «верха» (голова) и «низа» (ноги) соотносится с оппозицией «чистый» — «нечистый». Не случайно поэтому женщине запрещалось употреблять головы жертвенных животных, делать подошвы пим (обуви) из оленьих лбов126. Женская одежда как атрибут «низа» считалась «поганой, хранилась в поганом углу у дверей. Даже сушить ее полагалось только у дверей и невысоко вешать для просушки»127. Описывая систему запретов, регламентировавших поведение женщины в традиционном ненецком обществе, исследователи делали вывод о ее полном бесправии и подчинении мужчине. Однако «бесправие» женщины у ненцев сродни «бесправию» священного царя и имеет ту же сакральную природу: «Такой правитель живет опутанный сетями детально разработанного эти-
|
|
|
кета, запретов и предписаний, цель которых состоит не в охране его достоинства и тем более благополучия, а в удержании его от совершения поступков, которые нарушали бы гармонию природы, могли бы ввергнуть его самого, народ и весь мир во всеобщую катастрофу»128. И далее Дж. Фрэзер, сопоставляя функции священного царя и женщины в традиционном обществе, отмечает, что «запреты и последствия, которые, как предполагается, вызовет их нарушение, одинаковы как по отношению к особам, которых почитают священными, так и по отношению тех, кто считается нечистым. Одеяние священного вождя убивает тех, кто им пользуется. То же воздействие оказывают вещи, к которым прикоснулась, например, женщина во время менструаций»129.
Традиционный культурно-бытовой уклад ненцев в значительной степени совпадал с природно-биологическими ритмами. В условиях почти полного растворения человека в дикой природе женщина выполняла важные функции по сохранению и передаче социального и культурного опыта. Одним из механизмов реализации этих функций и являлась система запретов, регулировавших ее поведение. Само наличие такой системы, табу и установление неослабного контроля за их соблюдением постоянно напоминали человеку о том, что социум и космос обладают определенными правилами организации, нарушение которых может привести к всеобщей катастрофе. Особая роль в поддержании существующего миропорядка отводилась женщине, которая, по мифопоэтическим представлениям, наделена была огромными разрушительными и созидательными способностями. Особенности архаического восприятия женщины позволяют раскрыть семантику обрядовых действий, совершавшихся в священной роще Козьмин перелесок. Поскольку женщине как «нечистому» существу запрещалось переходить через священные объекты, то, проезжая через Козьмин перелесок, она должна была «очиститься» путем принесения жертвенных даров. Среди них, как сообщал Вениамин, особое место занимали ленты, пояски, лоскутки ткани красного цвета. В цветовой символике ненцев красный цвет соотносился с женщиной. Именно в этот цвет были окрашены земля, на которой проживала мифологическая прародительница ненцев, веревка для привязывания груза на «чистых» женских нартах («вата»), свадебный флаг невесты и т. д.
|
|
|
Священная роща Козьмин перелесок являлась «дорожным» святилищем. Она располагалась на южном конце дороги-ворьги, по которой проходила сезонная миграция оленеводов. В ненецкой символике пространства север был связан со сферой женского, юг — мужского. Описывая сакральную топографию острова Вай-гач, Вениамин отмечал, что «на этом острове издревле почитались главные два идола, один на южном конце сего острова, мужского пола, а другой на северном конце, женского рода»'30. Связь севера с женским (праматеринским), родовым, сакральным началом прослеживается и в погребальной обрядности ненцев. Характеризуя пережитки родового строя у ненцев, Т. Д. Вербов писал, что «если зимой, когда тундровые ненцы откочевывают к югу, в зону лесотундры, и находятся подчас за сотни километров от своей родовой территории, у них кто-либо умрет, то его зачастую не хоронят, а завернув в шкуры или берестяные " тиски", укладывают на нарты. По окончании весенней перекочевки к северу, достигнув родовой территории, покойника хоронят на одном из кладбищ рода»131. Следовательно, во время осенней миграции оленеводов на юг женщина покидала «свое» пространство (север, тундра)
и попадала в «чужое» (мужское) пространство (юг, лес). На границе мужского и женского, леса и тундры и располагалось святилище Козьмин перелесок, которое являлось своеобразным «инициационным» центром, где происходил переход от одного состояния и статуса к другому. Совершая обряд жертвоприношения в священной роще, женщина не только «очищалась» от родовой скверны, но и приобщалась к ценностям «чужого» (мужского) пространства. Типологически это соответствует обряду перехода невесты в дом жениха, во время которого она приобщалась к сакральным реликвиям чужого рода. Подобным же образом в период весенней перекочевки на север мужчины совершали обряд жертвоприношения в священной роще и тем самым готовили себя к переходу на родовую (женскую) территорию. Во время полевого обследования святилища нами были обнаружены остатки мужских жертвоприношений (черепа и рога оленей), причем все находки концентрировались именно на северной границе священной рощи.
|
|
|
Таким образом, говоря о функциях святилища Козьмин перелесок, можно высказать предположение о том, что оно было рубежным культовым объектом, отмечавшим, с одной стороны, родовую (этническую) территоррию ненцев, а с другой — являвшимся местом проведения календарных (весенне-летних и осенне-зимних) обрядов, фиксировавших наиболее значимые переходные моменты сезонных миграций оленеводов. Обряды жертвоприношения, совершавшиеся в священной роще Козьмин перелесок, не только отмечали смену основных видов хозяйственной деятельности (оленеводство — охота), но и актуализировали важнейшие категории культуры ненцев: мужское и женское, дикое и домашнее, сырое и вареное, «чистое» и «нечистое», природа и культура.
География и космография саамской культуры
Шаманский тип освоения пространства был характерен и для другого кочевого народа Арктики — саамов, харизматическим лидером которых являлся шаман — нойда, обладавший способностью свободно ориентироваться и перемещаться в пространстве саамского универсума. Пространственный менталитет саамов, способы их ориентации в арктическом пространстве были заданы, определены мировидени-ем шамана, который не нуждался в обычном зрении, а руководствовался во время своих путешествий внутренним духовным видением. Внутренним зрением обладали и обычные люди, воспитанные в традициях шаманистской культуры. Поэтому в среде саамов бытовали рассказы о людях, лишенных зрения, но свободно ориентировавшихся в тундре. Способность саамов вслепую ориентироваться в пространстве хорошо знали руководители научных изыскательских экспедиций, приглашавшие лопарей в качестве проводников, которые «лучшие карты знали тундру»132.
Саамы действительно не нуждались в обычных топографических и географических картах, поскольку пространство тундры представлялось им не географической, а космографической реальностью, которая описывается с помощью сакральной карты мира, изображенной на шаманском бубне. «Рисунки на бубне представляли собой разновидность карты, с помощью которой душа шамана совершала путешествия по трем частям универсума»133.
|
|
|
На космологической карте саамского бубна изображается «верхний мир небесных богов, средний мир, населенный людьми, и нижний мир, Jabmeaiva, или мир, перевернутый вверх дном. Разные сферы мироздания связаны, однако, единой осью, в центре которой располагается солнце (Peive). Солнце, локализованное в центре бубна, окружено изображением богов, людей и других символов, которые в совокупности образуют конфигурацию, симметричную центру. Локализация фигур, так же, как и вся структура бубна а целом, включая и его овальную форму, является воплощением циклической концепции жизни»134. Тернарная иконография саамского бубна и его округлая форма — это одно из воплощений образов мировой триады и мирового круга, лежавших в основе космологии саамов, их пространственного менталитета. Тернарные и дуальные космологические модели определяли числовую символику саамской культуры, стратиграфию и планиграфию сакральных сооружений, социальное устройство и формы быта.
В частности, бинарная схема лежала в основе традиционного саамского календаря: «Год может быть разделен на две части — на зиму и лето. Что касается экономики и культуры, то можно говорить о зимней и летней культурах в саамском обществе»135. Смена времен года, переход от одной половины годового цикла к другой фиксировались с помощью особого обряда перехода — «медвежьего праздника», отмечавшего наступление нового года («медвежий праздник маркировал конец зимы или ее начало»)136. «Регулярность зимней спячки превращала медведя в прекрасный индикатор времени. Ее ритм соответствовал биокосмическому ритму с его сменой света и темноты. Это устанавливало границы основных времен года. Медведь стал главным символом вечного перехода, смены зимы и лета. Это была мак-рокосмическая перспектива. Медведь стал медиатором между Небом и Землей. Следовательно, различия между летней культурой, связанной с периодом созревания, и зимней, связанной с периодом охоты, в огромной степени зависели от отношения человека к медведю»137.
Временная дифференциация саамской культуры, предполагавшая смену видов хозяйственной деятельности в зависимости от смены времен года, семантически и мифологически соотносилась с половой дифференциацией традиционных форм жизнедеятельности саамского общества, в котором основными занятиями женщины являлись рыболовство и домоводство, а главными сферами мужского труда — охота и оленеводство. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы, собранные Чар-нолуским у Кольских лопарей. Во время весеннего отела «мужчины, бывает, на несколько дней уходят из дому. Все время работают в стаде, там и ночуют: принимают телят, смотрят, чтобы метки в порядке были... Бывает и так, что мы, женки, ходим в стадо, носим мужьям обед. Однако оленей не касаемся»138. Мужчины выполняют, казалось бы, чисто женскую «акушерскую» работу, но женщины, по их словам, оленей даже не касаются. Это очень существенное замечание, которое, вероятно, фиксирует особый запрет для женщины заниматься оленеводством. Подобным же образом осенью собиранием оленей в стада («иманием» оленей) занимаются только мужчины, которые «уходят в олени»139. Весной и осенью, когда мужчины занимаются отелом и «иманием» оленей, женщины чинят сетки, ловят рыбу. «Если озера станут рано, все мы начинаем ловить рыбу сетками. Мужикам некогда: они пасут и собирают и разделяют оленей; правда, они приезжают на озера, когда начинается лов, рубят проруби или переставляют сети на новые места, но больше
времени они живут в оленях»140. Ведущая роль женщин в организации рыболовства проявлялась и в том, что они занимались дележом рыбы, процедура которого описана Чарнолуским. Женская природа рыбной ловли у саамов раскрывается и в «Саге о старом Няле»: «У Няля и его сыновей было два дома — один в погосте, где рыбачили их жены, другой в лесу, в потайном месте»141.
Приведенные материалы позволяют сделать вывод о том, что в традиционном саамском обществе существовало временное и половое разделение труда. Основным занятием мужчин в весенне-осенний (переходный) период было оленеводство, а женщин — рыболовство. В зимнее время характер хозяйственной деятельности изменялся. Зимой важнейшей сферой мужского труда становилась охота: «Мужики в это время охотой занимаются... Мужики на охоте по неделям пропадают, а бабы тем часом дают себе отдых, по гостям катаются на своей пятерке оленей... А бывает и так, что самостоятельная женщина нарядится во все лучшее и поедет одна по гостям, к своим подружкам, к сестрам и братьям и приятелям. А потом они к ней приедут, живут у нее, жируют, гуляют, отдыхают и веселятся»142. Зимой наблюдается поразительное различие между охотничьей страдой мужчин и абсолютной праздностью женщин. Смена видов хозяйственной деятельности, изменение модели мужского и женского поведения соотносились не только с переходом в иное время, но и с переходом в иное пространство кочевой модели мира саамов, в которой выделяются три части пространства (море — тундра — лес).
Традиционный образ жизни саамов строился на реализации религиозно-мифологической концепции «мирового древа», которая описывала временные и пространственные аспекты саамского универсума. Календарный аспект модели мира предполагал деление годового цикла на две половины (зиму и лето). Помимо двух основных времен года было еще и особое переходное время, связанное с периодами весенне-осеннего межсезонья, когда совершался медвежий праздник, знаменовавший наступление нового временного цикла. Основные времена года соотносились с двумя сакральными промыслами: зимней мужской охотой и летним женским рыболовством. Если лето и зима наделялась сакральными характеристиками, то переходное время весенне-осеннего межсезонья считалось профанным и целиком было посвящено трудам и заботам о хлебе насущном («имание» оленей и рыбы). Три времени года (два основных и одно переходное) соотносились с тремя пространственными сферами мироздания (море — тундра — лес). Летний лов рыбы женщинами происходил в водах нижнего мира (море). Мужчины во время охоты добывали дикого зверя в верхнем (небесном) мире, воплощенном в пространстве леса. Тундра — это средний мир саамской космологии, который населяют обычные люди, занятые повседневной хозяйственной деятельностью.
Сакральный статус летнего женского рыболовства и зимней мужской охоты определялся их связью с мифологемами начала мира и его катастрофического конца. Другими словами, если миф и ритуал рыбной ловли воспроизводили процесс творения мира (космогенез), то миф и ритуал космической охоты описывали процесс его распада (эсхатология). Связующим звеном между космогоническим и эсхатологическим уровнями саамской мифологии являлся цикл мифов о небесном сватовстве, в которых с помощью системы бинарных сементических оппозиций описывалось устройство мироздания (космология).
Космогонический аспект летнего женского рыболовства проявлялся в том, что женщина обладала исключительным правом ловли лосося (семги). «Несомненно, что женщины в основном занимались ловлей семги... Первую семгу ловили в фиордах вскоре после 9 мая (Николин день). Двумя неделями позже, после того как лед растает, ловили крупного лосося, называвшегося «нос-рыба» (nose fish). По словам Таннера, они назывались так, потому что они возглавляли косяк лососей, которые начинали в данный момент подниматься вверх по реке. Вскоре после наступления середины лета (Иванов день) саамы ловили летнюю семгу, которая была меньше и которая также поднималась по реке. Ловля лосося обычно завершалась около 20 июля (Ильин день). После этого женщины следовали за мужчинами на места морского рыбного промысла»143. Выделенность лосося, его исключительная связь с женщиной позволяет предположить, что традиция летней женской ловли семги восходит, вероятно, к исчезнувшему мифу (или мифологическому мотиву) об оплодотворении женщин лососем: «Некоторые из видов рыб выделены особо. Лосось символизирует изобилие, знание, вдохновение (среди американских индейцев и финно-угорских народов распространено мнение, что во внутренностях лосося находится огонь... »144. Мотив сексуальной связи женщины и рыбы (лосося) известен в разных мифологических традициях. Включенность летней ловли семги женщинами в ритуально-мифологический ряд подчеркивается восприятие этого промысла как особого праздника. По записям В. В. Чарнолуского, у Кольских лопарей вылов первой рыбы сопровождался жертвоприношением хозяину реки и совместной ритуальной трапезой145.
Религиозно-мифологические истоки женского рыболовства прослеживаются и в том, что оно было вписано во временной ритм праздников, отмечающих начало лета (Николин день), его середину (Иванов день) и конец (Ильин день). Тернарная числовая символика ритуала ловли семги лежит и в основе его пространственной организации. Троекратный лов семги производится в устье реки, ее среднем течении и у истоков. Река, по которой поднимается косяк лососей, превращается в мировую реку, связующую разные сферы саамского универсума. Переход из одной сферы в другую образуют цепочку реинкарнаций, восходящую к творческому, порождающему акту первой встречи женщины и лосося. Для осознания космологического масштаба этой встречи крайне существенно отметить полное «хронологическое» совпадение первого лова лосося женщинами в самом начале лета с актом зачатия, однозначно прикрепленного к этому же времени: «Социальная, культурная, религиозная и частная жизнь была вписана в ежегодный ритм смены времен года до такой степени, что любовные игры происходили в начале лета, а дети почти всегда появлялись на свет поздней зимой»146.
У Кольских лопарей летняя ловля рыбы являлась ритуалом, воспроизводившим мифологический мотив добывания птицей травинки, из которой выросло мироздание. Ритуал ловли — добывания рыбы на священном озере Сейдъявр был описан В. В. Чарнолуским: «На озере Сейдъявр саамы ловили рыбу один раз в году. Это бывало, по обычаю, летом, в день, указанный знающим человеком. Его знака ждали день ото дня, начиная с петрова дня (то есть 12 июля). Скажет знающий и назовет имя, имя девушки такой-то, тогда уж почитай что и не спят в тот день... Как прослышат люди о сказанном, тотчас затопляют камельки. И все, кто ни есть в каждой семье, моются с головы до ног. И все, у кого есть что переменить, — все надевают
чистое, отбеленное белье. И тогда собираются и едут, каждая семья в своем карбасе, а та, чье имя названо, — та едет в лучшем, новом карбасе, в тот год сшитом. Одна она сидит на скамеечке, покрытой сухой донной травой. Не гребет она, отцов карбас толкает ее впереди себя. Так и едут в молчании, дружно, карбас за карбасом, и только один человек виднеется впереди всех — это опас. Он все пути знает, он разведывает, свободен ли путь, нет ли препоны, не осквернил ли кто их озеро? Он примет на себя весь страх, всю оборону на случай беды... Знающий снимал шапку, кланялся воде и бросал в озеро монету. И все, кто стояли на карбасах, каждый хозяин своего суденышка следовали примеру старца и бросали монету. После этого лодки разъезжались по своим местам. Теперь все забрасывали сети и начинали ловить рыбу. В великой тишине ловили рыбу. Покончив с этим делом, лодка причаливала к берегу; кто хотел, разбивал палатку. Все располагались на отдых и спали. Приходил урочный час. Знающий вытаскивал со дна озера новые водяные травы и раскладывал их на бортах того карбаса, где лежала нареченная девушка. Остальные хозяева вытягивали сети, обирали рыбу. Покончив с осмотром сетей, один за другим собирались на островок на озере; посредине острова покоился огромный валун, похожий на рыбью голову. Тут с южной стороны камня уже запасены дрова. Все приносили свои котлы, полные рыбы, разводили под камнем огонь и усаживались в кружок, от мал мала меньше до самого старшего. Тут пили и ели, насыщались свежиной до отвала, хмельной березовый сок пили и песни пели, кому какая на душу падет. А потом в том же порядке отправлялись домой. Но девушку, имя которой называл знающий, везли теперь не впереди, а позади; и не сидела она, а лежала среди водяных, донных, с озера добытых трав... И опас ехал теперь позади, охраняя поезд родных и односельчан от неожиданной беды»147. Главной героиней ритуала ловли рыбы на священном озере является девушка, во внешнем облике и поведении которой явственно проступают черты жертвенности. Девушка-жертва сидит на скамеечке, покрытой сухой донной травой. Во время ловли рыбы ее лодка украшается вновь выловленной травой, которая, несомненно, восходит к прообразу «первой» травы из мифа «О начале человека»: «И не было земли. Было одно море — вода. И не было никакого человека. А уточка летала... Летала она несколько времени и нашла травинку на воде. И она села на травинку. А не держит! Опять полетела. Летала она несколько времени и прилетела к той же травинке — сыйнь называется эта травинка. Уточка летала, летала, а травинка росла и росла. И травинка сыйнь выросла больше, и уточка стала летать кругом этой травинки. И глядит — растет земля от травинки вокруг. И уточка села, а не держит! Ну, еще несколько времени уточка летала, и от травинки стало расти земли больше. И выросла земля! И уточка села! Та земля была Лавчепахк, она первою вышла из-под воды. И земля выросла! И уточка по земле стала бегать. И снесла яйцо, и снесла другое яйцо, и третье, и четвертое, и пятое яйцо она снесла»148.
В саамском пантеоне была особая богиня трав, пастбищ и домашних оленей (Луот-хэзик): «У этой богини всегда в руках веретено; поворачивая его туда-сюда, она направляет ветры и стада оленей в нужную сторону»149. Богиня трав одновременно является и хозяйкой оленьей судьбы, что свидетельствует о генетической связи оленя с образом «первой» (донной) травы, с морем.
Центральным моментом ритуала ловли рыбы являлась жертвенная трапеза на острове, выросшем на первозданном море из «первой» травы сыйнь. Связь этой
травы с мифологемой «космической рыбалки» прослеживается и в том, что именно из нее в мифе творения мира была изготовлена первая сеть: «Мужик сделал прядин-ку из травинки сыйнь и связал сетку, и поставил ее в озеро»150. Ритуал ловли рыбы завершался возвращением процессии лодок, при этом девушка, которая была принесена в жертву, уже не сидела, «а лежала среди водяных, донных, с озера добытых трав». Сама пространственная организация ритуала «космической рыбалки» воспроизводит сюжет путешествия в опасный локус пространства, где прямо на глазах людей происходит таинство рождения мира из тела «девушки-травы». Поездкой в хаос рождающегося мира руководит шаман-опас, который во время пути на озеро возглавляет процессию, а при возвращении замыкает ее, что типологически соответствует функции распорядителя погребального ритуала, который возглавляет траурную процессию при движении на кладбище и «заметает следы», разбрасывает защитные магические предметы на обратном пути.
Если ритуал рыбной ловли, воспроизводивший мифологему добывания-«има-ния» «первотравы в мифе о начале мира, являлся сакральной праформой, из которой развился профанический рыбный промысел, то мотив " космической охоты" в эсхатологическом мифе о конце мира содержал в себе сакральный зародыш профа-нической охоты на диких животных. Бог-громовник Тьермес преследует оленя-человека Мяндаша: " Из-за Норвеги, из-за Лимандров далеких, где не нашей жизни начало, гонит Тьермес добычу. Она впереди, никогда не видима богу, близка ему для удара, вот-вот ударит молнией в сердце. То олень бежит златорогий. Белый он — его шерсть серебристее снега. Черную голову держит высоко, закинув рога и на невидимых крыльях летит. Ветры вольные — его дыханье, они несут его в полете, в его пути. Глаза его полузакрыты. Но не смотри в них человек — от силы их ты будешь слеп. Закрой свои уши, когда услышишь бег, — от той силы ты будешь глух. Горячего дыхания его коснешься ты — и будешь нем.
Знай: то Мяндаш-пырре...
Знай: когда великой Тьермес настигнет Мяндаш-пырре и первой стрелой ударит, весь камень гор раздастся и выбросит огонь, все реки потекут назад, иссякнет дождь, иссякнут все озера, море оскудеет. Но солнце будет.
Знай еще: когда великий Тьермес стрелой вопьется в черный лоб меж золотых рогов, огонь охватит землю, горы закипят водой, на месте этих гор поднимутся другие горы. Сгорят они, как бородатый мох на старых елях. Сгорят полуночные земли, и лед вскипит.
Когда на Мяндаш-пырре ринутся собаки и Тьермес вонзит свой нож в живое сердце, тогда конец: упадут с неба все звезды, потухнет старая луна, утонет солнце далеко. На земле же буде прах" »151.
Эсхатологический охотничий миф о конце мира представляет собой зеркальное отражение космогонического «рыболовецкого» мифа о начале мира. Развертыванию трехчастного мирового пространства противопоставляется его трехчастное эсхатологическое свертывание (вода — земля — небо — вода — земля — небо). Сюжет космической охоты развертывается одновременно в реальном географическом и космологическом пространствах. Громовник гонит оленя «из-за Норвеги, из-за Лимандров далеких, где не нашей жизни начало». Этот космографический зачин повторяется и в других легендах о Мяндаше: «Белый как снег, он бежит из-за Лимандров далеких, из-за Норвеги»152. По словам лопарей, «настоящие мяндаши живут на
высокой горе, туда на запад. Там у них высокая вершина, там у них дом стоит»153. Родина Мяндаша — это и родина «летучего камня» — сеида. «Ранее Сейдпахк жил или сидел где-то там, далеко за Лимандрами»'54. Лимандры, по мнению Чарнолус-кого, — это «название мифических зеленых гор или озер, связанных с представлением о каких-то западных землях»155. Мяндаш — первопредок и культурный герой саамов, воплощающий в себе судьбу народа и его путь. Исход Мяндаша на восток начинается из самого центра мира, из его сакрального начала. Мяндашу не понравилась вода Нижнего озера, не понравилась земля, и он взбежал на гору (камень) Сыйвынь. «Это здесь, на месте, где расположен Сыйвынь, появилась первая травка-сыйнь»156. Поднимаясь из нутра мира по трем сферам мироздания (вода — земля — гора), Мяндаш одновременно перемещается с запада на восток, то есть в том самом направлении, в котором движутся («летят») окаменевшие первопредки («праудед-ки») саамов — сейды.
Чернолуский так описывает свои впечатления от встречи с сеидами: «Казалось, эти люди куда-то шли, но переступили какой-то запрет и окаменели. Я не мог отделаться от ощущения, что эти люди из гранита все еще идут и что-то ищут. Идут куда?.. И у меня перед глазами шел народ — с горы на гору, от одного камня, словно готового взлететь, к другому, туда, где за далью уже виднеется новый могучий камень. — Туда им путь, — сказал Илья, когда мы взобрались на темечко старика с его мокрой лужицей... Сначала Илья произнес свои загадочные слова: " Туда им путь", а потом уже у меня возникли, вернее, углубились догадки и ощущения о походе " праудедков". Так часто бывает. Вслед за тем выяснилось и это направление: " туда" — значит на восток, туда, где лежит Сейдапакушка, Сейдапахк, то есть священный Летучий камень»157.
|
|
|


