 |
Н. Эйдельман. После 14 декабря. Введение
|
|
|
|
После 14 декабря
(Из записной книжки писателя‑ архивиста)
Введение
Любому специалисту по русской истории и словесности известны сборники «Звенья», издававшиеся Литературным музеем (1‑ й том – в 1932 году, последний, девятый, – в 1951‑ м). Несколько лет назад, при подготовке пушкинского тома альманаха «Прометей», мне было предложено поискать старые рукописи, по разным причинам – прежде всего из‑ за «тесноты» – не поместившиеся в свое время в «Звеньях».
Я, разумеется, отправился сначала в рукописный отдел Ленинской библиотеки и углубился в бумаги Владимира Дмитриевича Бонч‑ Бруевича. Только опись его огромного фонда занимает 4 тома – и это естественно, потому что целой страницы не хватило бы для перечисления тех государственных и общественных должностей, на которых поработал в течение своей жизни Владимир Дмитриевич. Видное место в этом списке занимает многолетнее директорство в Литературном музее, а также собирание и редактирование «Звеньев». Почти всю корреспонденцию с авторами рукописей вел сам Бонч‑ Бруевич, и некоторые полученные им письма оказались очень интересными.
Главным публикатором пушкинских статей и заметок в «Звеньях» был один из крупнейших специалистов, Николай Осипович Лернер. С ленинградской квартиры Лернера в Москву непрерывно посылались «пушкинологические этюды», украсившие несколько томов сборника «Звенья», но все же, как это выяснилось из переписки, далеко не все «этюды» были напечатаны. Около половины были одобрены редакцией, отложены для более дальних томов, но так и не появились. К величайшему сожалению, ни в архиве Бонч‑ Бруевича, ни в архиве Лернера, ни в бумагах Литературного музея отыскать «этюды» не удалось. Таким образом, непосредственного результата мой поисковый «рейд» не имел.
|
|
|
Мало того, из десятков писем Лернера к Бонч‑ Бруевичу открывались названия не только пушкинских, но и других неопубликованных материалов, и некоторые серьезно тревожили воображение.
Так, выяснилось, что Лернер представил большую рукопись «Ванька Каин», о которой 21/II 1934 г. В. Д. Бонч‑ Бруевич делает следующее заключение: «Она исчерпывающе выявляет героическую личность прошлых времен… По‑ моему, ее нельзя ни в коем случае сокращать и кромсать, ибо из всей этой инкрустационной работы, которую проделал Н. О. Лернер, с тем огромным материалом, который он так удачно препарировал, вряд ли возможно что‑ либо изъять из него, чтобы не нарушить цельности. Так как Ванька Каин большой литератор и поэт и его песни до сих пор распеваются русским народом во всей обширной нашей Земле, то мне кажется, что эта работа подлежит опубликованию в издательстве „Academia“»[24].
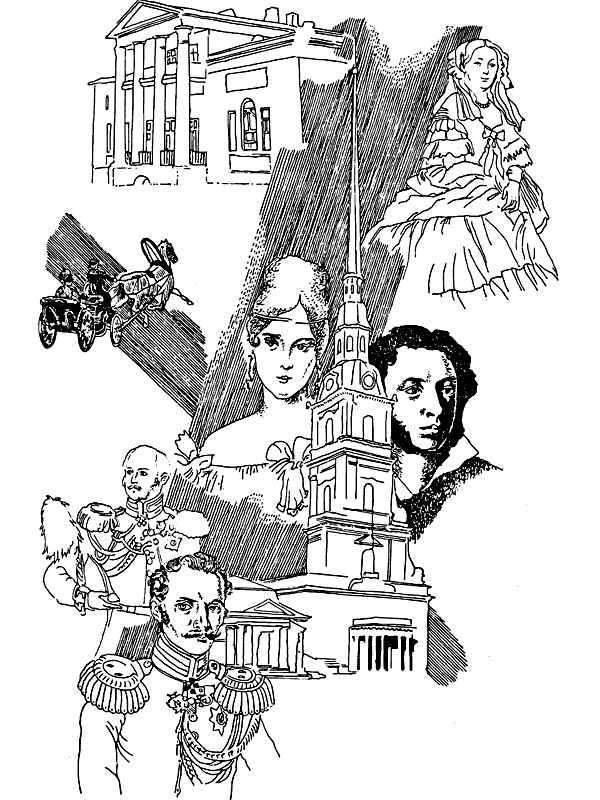
Из переписки В. Д. Бонч‑ Бруевича с женой Лернера мы узнаем, что работа о Ваньке Каине поступила в издательство «с прекрасным отзывом Горького»[25].
К сожалению, и эта работа, одобренная такими авторитетами, не превратилась в печатную и доныне не обнаруживается в рукописном виде.
Наконец, еще один факт из той же переписки, с которого и начинается, собственно, главная часть нашего повествования.
10 октября 1933 года Лернер сообщает Бонч‑ Бруевичу, что «главная новость» – это попавшая к нему семейная переписка мрачно знаменитого начальника III отделения Дубельта.
«Это такая жандармско‑ помещичья хроника, что для беллетриста и историка просто клад»[26].
Из писем Лернера конца 1933 – начала 1934‑ го видно, что он собирается «обработать для „Звеньев“ этот материал, музей же пока что хочет приобрести саму переписку и соглашается уплатить за нее 1500 рублей»[27].
|
|
|
Однако 8 октября 1934 года Н. О. Лернер внезапно умирает в Кисловодске; работа о Дубельте, как и ряд других замыслов, не осуществилась.
Успел или не успел ученый доставить «жандармско‑ помещичью хронику» в Москву?
Ответ нашелся в старых документах Литературного музея, где отмечено поступление «160 писем А. Н. Дубельт к мужу Л. В. Дубельту, 1833–1853, на 286 листах; упоминаются Орловы, Раевские, Пушкины»[28].
Таким образом, музей сохранил эти материалы от многих превратностей судьбы (приближались годы войны, ленинградская блокада).
Но два вопроса возникли тотчас:
– Почему письма не напечатаны?
– Где они теперь?
На первый вопрос ответить легче: смерть Лернера, работавшего над своей находкой, конечно, затрудняла, отодвигала ее публикацию. К тому же, скажем откровенно, редакции журналов и книг не слишком любят материалы об отрицательных персонажах истории – царях, министрах, реакционных публицистах… Однако естественное предпочтение, которое отдается, например, Герцену перед Катковым и Пушкину перед Бенкендорфом и Дубельтом, иногда выражается в формах, вредных для изучения Герцена и Пушкина. Нужно ли объяснять (ох, кажется, нужно), что противостоящие общественные силы, враждующие деятели существовали не в разных, а в одном мире и времени, взаимно вписывались в биографии друг друга, и абсолютно разделить их столь же трудно, как отломать отрицательный полюс магнита, дабы получить идеальный магнит с одним положительным полюсом…
Открыв указатель полных академических собраний Пушкина, Гоголя, Белинского, а также сборники мемуаров о них, мы не раз найдем имя Дубельта, а в последнем 30‑ томнике Герцена этот генерал числится 65 раз. Ну, разумеется, редко его поминают добром, но все равно: жил он на свете, влиял, не выкинешь, а если выкинем, то многого не поймем, не узнаем, в биографиях лучших людей той эпохи, да и саму эпоху вдруг не разглядим… Кстати, еще в конце 1920‑ х годов П. А. Садиковым было подготовлено издание весьма любопытных дневников Дубельта; уже был сделан набор, но тем дело и ограничилось: верстка хранится теперь в библиотеке Музея А. С. Пушкина (Ленинград, Мойка, 12).
Что касается «дубельтианы» Лернера, то ни в «Звеньях», ни в других научных и литературных изданиях никаких следов не обнаружилось.
|
|
|
Тогда я принялся за поиски самих писем, более четверти века назад пришедших от ленинградского пушкиниста в московский музей.
Долго ничего не находилось ни в архивах издательств, ни в фонде Бонч‑ Бруевича. Большинство громадных коллекций Литературного музея в 1941 году переместилось в Литературный архив (ЦГАЛИ), но и здесь письма не были обнаружены. В самом Литературном музее до сего дня сохраняется немалое число рукописей, но и там нет ни одного из 160 посланий.
Неужели пропали?
Правда, небольшой фонд Дубельта имелся в архиве Октябрьской революции (ЦГАОР), но туда я не торопился, так как знал: тот фонд довольно старый, он возник в 1920‑ х годах, когда в руки собирателей случайно попали брошенные кем‑ то бумаги грозного жандармского генерала (и в их числе – подлинный дневник, который и пытался опубликовать Садиков). Все это было до лернеровского открытия и не имело к нему отношения.
Лишь через полгода, отчаявшись найти письма там, где они «должны быть», я отправился все‑ таки в ЦГАОР и попросил опись фонда 638 (Леонтия Васильевича Дубельта).
Действительно, тут значатся дневник и другие материалы, поступившие в 1920‑ х годах, – всего 25 единиц хранения.
А чуть ниже этого перечня приписка: новый год поступления – 1951‑ й (! ).
№ 26. Письма Дубельт Анны Николаевны к мужу Дубельту Леонтию Васильевичу; 60 писем, 28 мая 1833 – 13 ноября 1849 г., 135 листов.
№ 27. Письма Дубельт Анны Николаевны к мужу Дубельту Леонтию Васильевичу, 23 мая 1850 – 6 февраля 1853 г., 64 письма, 151 лист.
Вот они лежат. Писем – не 160, как записали некогда в музее, а 124 (видимо, позже сосчитали точнее). Зато общее число листов сходится с прежней записью: 286. Те самые письма! Когда собрание рукописей Литературного музея передавалось в ЦГАЛИ, естественно, выделили документы тех лиц, чьи фонды уже имелись в других архивах: фонд Дубельта уже был в ЦГАОР, и к нему присоединили «дубельтиану» Лернера. Очень просто, и можно было раньше догадаться.
|
|
|
Итак, настала наконец пора представить находку читателям.
Анна Николаевна Дубельт – Леонтию Васильевичу Дубельту 6 июня 1833 г. из села Рыскина Тверской губернии в Санкт‑ Петербург:
«Досадно мне, что ты не знаешь себе цены и отталкиваешь от себя случаи сделаться известнее государю, когда этот так прямо и лезет тебе в рот…
Отчего А. Н. Мордвинов выигрывает? Смелостию… Нынче скромность вышла из моды, и твой таковой поступок припишут не скромности, а боязливости, и скажут: „Видно, у него совесть нечиста, что он не хочет встречаться с государем! “ – Послушай меня, Левочка, ведь я не могу дать тебе худого совета: не пяться назад, а иди навстречу таким случаям, не упуская их, а, напротив, радуйся им».
Анна Николаевна Дубельт находит, что полковник и штаб‑ офицер корпуса жандармов – не слишком большие чин и должность для ее сорокалетнего мужа. Правда, род Дубельтов невидный, и злые языки поговаривают о выслуге отца из государственных крестьян, но юный гусар Василий Иванович Дубельт сумел, странствуя за границей в 1790‑ х годах, обольстить и похитить испанскую принцессу Медину‑ Челли, так что по материнской линии их сын Леонтий Васильевич – родня испанским Бурбонам, а через супругу Анну Николаевну (урожденную Перскую) еще 15 лет назад породнился с одной из славнейших фамилий: дядюшка жены – знаменитый адмирал Николай Семенович Мордвинов, член Государственного совета, воспетый Рылеевым и Пушкиным, автор смелых «мнений», известных всей читающей публике, единственный член верховного суда над декабристами, голосовавший против всех смертных приговоров.
Из прожитых 40 лет Леонтий Дубельт уже прослужил 26: не достигнув пятнадцати лет, он был выпущен прапорщиком (1807 год, война с Наполеоном, ускоренное производство в офицеры), под Бородином ранен в ногу, был адъютантом знаменитых генералов Дохтурова и Раевского. Вольнодумное начало 1820‑ х годов подполковник Дубельт встречает на Украине и в Бессарабии в среде южных декабристов, близ Михаила Орлова и Сергея Волконского: Дубельт считается в ту пору видным масоном, членом трех масонских лож, «одним из первых крикунов‑ либералов» (по словам многознающего Николая Греча). В 1822 году он получает Старооскольский полк, но после 14 декабря попадает под следствие; некто майор Унишевский пишет донос, Дубельта вызывают в столицу, однако рокового второго обвиняющего показания не появилось – и дело обошлось. Впрочем, фамилию Дубельт внесли в известный «Алфавит». Непосредственный начальник Дубельта, командир дивизии генерал Желтухин, судя по его сохранившейся переписке, был тип ухудшенного Скалозуба и полагал, что «надобно бы казнить всех этих варваров‑ бунтовщиков, которые готовились истребить царскую фамилию, отечество и нас всех, верных подданных своему Государю; но боюсь, что одни по родству, другие по просьбам, третьи из сожаления и, наконец, четвертые, как будто невредные, будут прощены, а сим‑ то и дадут злу усилиться, и уже они тогда не оставят своего предприятия и приведут в действие поосновательнее, и тогда Россия погибнет»[29].
|
|
|
Понятно, как такой генерал смотрел на реабилитированного полковника, и в 1829 году последний вынужден подать в отставку.
Отметим дату: четвертый год правления Николая I, идет популярная война с турками в защиту греков, работает «Тайный комитет» (образованный 6 декабря 1826 года), о котором, впрочем, все знают по формуле знаменитой госпожи де Сталь: «В России все тайна и ничего не секрет». Комитет разрабатывает различные реформы, и даже многие непробиваемые скептики склонны преувеличивать размеры и скорость грядущих преобразований.
Именно в это время Пушкин еще полон надежд на «славу и добро» и «глядит вперед без боязни».
Предвидеть резкое торможение реформ после революций 1830–1831 годов, предсказать «заморозки» 1830‑ х и лютые николаевские морозы 1840–1850‑ х годов способны были немногие. Эпоха обманывала, люди обманывались; а многие хотели обмануться – «обманываться рады».
Если из головы 37‑ летнего полковника еще не выветрились либеральные речи и мечтания, то все равно он, как и большинство сослуживцев, наверняка считает, что наступило «неплохое» время для службы России и себе и что грустно быть не у дел. Родственники Дубельта вспоминали, что «бездеятельная жизнь вскоре показалась ему невыносимой». К тому же, по‑ видимому, и семейные финансы потребовали подкрепления постоянной службой. В поисках новой фортуны Дубельт в 1830 году оказывается в столице, и тут от графа Бенкендорфа (очевидно, через приятеля Дубельтов – Львова) поступает предложение – из отставного полковника превратиться в полковника жандармов: имеется должность жандармского штаб‑ офицера в Твери, т. е. нужно там представлять III отделение собственной его императорского величества канцелярии, благо в Тверской губернии находится Рыскино и другие деревни Дубельтов.
В 1888 году потомки опубликовали кое‑ какую семейную переписку, относящуюся к тому решающему моменту в биографии Леонтия Васильевича. Он сообщил жене в тверскую деревню о неожиданной вакансии. Анна Николаевна, воспитывавшаяся среди людей, говоривших о жандарме презрительно или, в лучшем случае, пренебрежительно, была сперва не в восторге от новостей и написала мужу: «Не будь жандармом! »
Леонтий Васильевич отвечал неожиданно:
«Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорой бедных, защитою несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, – тогда чем назовешь ты меня? Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли место мое самым отличным, самым благородным? Так, мой друг, вот цель, с которою я вступаю в корпус жандармов: от этой цели ничто не совратит меня, и я, согласясь вступить в корпус жандармов, просил Львова, чтобы он предупредил Бенкендорфа не делать обо мне представление, ежели обязанности неблагородные будут лежать на мне, что я не согласен вступить во вверенный ему корпус, ежели мне будут давать поручения, о которых доброму и честному человеку и подумать страшно…»
В этих строках легко заметить старые, декабристских времен, фразы о высокой цели («…опора бедных…», «…справедливость угнетенным», «прямое и справедливое направление в местах судебных…»). Но откуда эта система мыслей? Желание воздействовать на благородные чувства жены? Собственная оригинальная философия?.. Совсем нет. Второе лицо империи граф Бенкендорф искал людей для своего ведомства. Настоящая, полная история III отделения еще не написана, отчего мы и не знаем многих важных обстоятельств. Однако даже опубликованные материалы (в книгах Шильдера, Лемке и др. ) ясно показывают, что план Бенкендорфа насчет создания «Высшей полиции» был не просто «план‑ скуловорот», но содержал плоды немалых и неглупых наблюдений‑ рассуждений.
Еще до 1825 года, по свидетельству С. Г. Волконского, «Бенкендорф вернулся из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Александр Христофорович осуществил при восшествии на престол Николая…».
Позже, заседая в Следственном комитете по делу о декабристах, Бенкендорф многому научился: во‑ первых, по части сыска; во‑ вторых, ближе узнал образ мыслей и характеры противников; в‑ третьих, лучше понял слабость и недостаточность имеющихся карательных учреждений. Одна из главных идей бенкендорфовской «Записки о Высшей полиции» (январь 1826 г. ) – повышение авторитета будущего министерства полиции: нужно не тайное, всеми презираемое сообщество шпионов, а официально провозглашенное, «всеми уважаемое», но при этом, разумеется, достаточно мощное и централизованное.
В докладе Бенкендорфа мелькают фразы о необходимости поставить жандармами «людей честных и способных, которые часто брезгуют ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность»; «полиция эта должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха». В инструкции своему аппарату Бенкендорф сильно нажимал на борьбу со злоупотреблениями («не должно быть преобладания сильных лиц»), на необходимость «добрых внушений» прежде «применения власти» и т. п.
Письмо Дубельта к жене как будто списано с инструкции шефа жандармов и начальника III отделения…
Говорили, будто бы пресловутый платок, которым Николай I просил Бенкендорфа утереть как можно больше слез, хранился в архиве III отделения. Авторитет же нового могущественного карательного ведомства был освящен царским именем: не «министерство полиции», а III отделение собственной его императорского величества канцелярии.
«В вас всякий увидит чиновника, – гласила инструкция шефа, – который через мое посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского, и беззащитного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора».
Все эти подробности приведены здесь, чтобы объяснить, как непросто было то, что сейчас, с дистанции полутора веков, кажется столь простым и ясным.
Историк должен еще будет подсчитать, сколько дельных, дельно‑ честолюбивых, дельно‑ благородных людей изнывало в конце 1820‑ х годов от «невыносимой бездеятельности» и порою из высоких, а часто из самых обычных побуждений желали:
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
На этой изнуряющей бездеятельности власть улавливала души, разные души, в разные ведомства, – разумеется, не только в III отделение. Отсюда отчасти шла деятельная административная и дипломатическая энергия позднего Грибоедова; отсюда начинается служба порядочного человека, князя Петра Андреевича Вяземского, приведшая его к должности товарища министра просвещения и ко многим поступкам, которых он сам бы устыдился у начала новой службы…
Между тем Бенкендорф звал в свое ведомство едва ли не «всех» и особенно рад был вчерашним вольнодумцам, которые – он знал – умнее, живее своих косноязычных антиподов, да и служить будут лучше, коли пошли. Как‑ то незамеченным остался красочный эпизод – приглашение в сотрудники III отделения не кого иного, как… Пушкина! «Бенкендорф… благосклонно предложил (Пушкину) средство ехать в армию. „Какое? “ – спросил Пушкин. Бенкендорф ответил: „Хотите, я вас определю в мою канцелярию и возьму с собой? “ – „В канцелярию III отделения? “ – „Разумеется“. Пушкин поблагодарил и отказался от этой милости »[30]
Заметим: этот разговор происходит в 1829 году, то есть как раз в тот период, когда III отделение искало «лучших людей».
С Дубельтом, по рассказам его родни, произошло вот что.
Согласившись на должность жандармского штаб‑ офицера в Твери, он случайно попал к Бенкендорфу во время болезни его штаб‑ офицера Сухарева, начал с временного замещения заболевшего, но так понравился шефу, что тот оставил способного полковника при себе.
Рассказам родни Дубельта нельзя, конечно, слишком доверять; полковник был очень хитер, ловок, и, может быть, успех его вовсе не является простой случайностью. Успокоив себя и других разговорами о том, что голубой мундир позволяет служить высоким идеалам, Дубельт мог задуматься о создании наилучших условий для наилучшего служения… Так или иначе, но летом 1830 года он уже близкий к Бенкендорфу человек, и к этому времени относится эпизод, доселе, кажется, неизвестный и для той ситуации до удивления характерный. Вероятно, по своей инициативе и, конечно, с одобрения высокого начальства, Дубельт пишет старинному другу Михаилу Федоровичу Орлову, сосланному в деревню и избежавшему Сибири только благодаря заступничеству перед царем родного брата, Алексея Орлова, влиятельного вельможи и будущего преемника Бенкендорфа (в архиве сохранилась жандармская копия ответного письма Орлова к Дубельту из деревни Милятино от 12 апреля 1830 года). Поскольку переписка чиновников III отделения не перлюстрировалась, то весьма вероятно, что копию представил сам Дубельт.
Вот письмо:
«Любезный Дубельт. Письмо твое от 30 мая получил. Я уже здесь, в Милятине, куда я возвратился очень недавно. После смерти Николая Николавевича[31] я жил с женой и детьми в Полтаве, где и теперь еще недели на три оставил жену мою, а детей привез сюда. Очень рад, мой друг, что ты счастлив и доволен своей участью. Твое честное и доброе сердце заслуживает счастья. Ты на дежурном деле зубы съел, и, следственно, полагаю, что Бенкендорф будет тобою доволен. Воейкову[32] я отвечаю нет! Не хочу выходить на поприще литературное и ни на какое! Мой век протек, и прошедшего не воротишь. Да мне и не к лицу, и не к летам, и не к политическому состоянию моему выходить на сцену и занимать публику собою. Я счастлив дома, в кругу семейства моего, и другого счастья не ищу. Меня почитают большим честолюбцем, а я более ничего как простой дворянин. Ты же знаешь, что дворяне наши, особливо те, которые меня окружают, не великие люди! Итак, оставьте меня в покое с вашими предложениями и поверьте мне, что с некоторою твердостью души можно быть счастливым, пахая землю, стережа овец и свиней и делая рюмки и стаканы из чистого хрусталя.
Анне Николаевне свидетельствую мое почтение и целую ее ручки. Тебя обнимаю от всего сердца и детей твоих также. Пиши ко мне почаще и будь уверен, что твои письма всегда получаемы мною будут радостно и с дружбою.
Твой друг Михаил Орлов »[33].
Письмо декабриста написано спокойно и достойно. Дубельт и Воейков, понятно, хотели и его вытащить на «общественное поприще», очевидно, апеллируя к уму и способностям опального генерала. Но не тут‑ то было! Старая закваска крепка. Орлов чувствует, откуда ветер дует, и отвечает «нет».
При этом, правда, Орлов верит в чистоту намерений старого товарища и радуется его счастью: очевидно, Дубельт в своем письме объяснил мотивы своего перехода в жандармы примерно так, как и в послании к жене. Возможно, декабрист на самом деле допускал в то время, что Дубельт сумеет облагородить свою должность, и не очень различал издалека, какова эта должность; но не исключено, что деликатный Орлов умолчал о некоторых появившихся у него сомнениях: заметим несколько раздраженный тон в конце послания – «оставьте меня в покое с вашими предложениями…»[34].
Заметим, однако, что жандармский полковник Дубельт и не думал обрывать знакомства прежних дней. Может быть, поэтому из опальных и полуопальных к нему расположен не один Орлов; знаменитый генерал Алексей Петрович Ермолов писал своему адъютанту Н. В. Шимановскому 22 февраля 1833 года, что Дубельт «…утешил меня письмом приятнейшим. Я научился быть осмотрительным и уже тому несколько лет, что подобного ему не приобрел знакомого. Поклонись от меня достойной супруге его. От человека моих лет может она выслушать, не краснея, справедливое приветствие. Я говорю, что очарователен прием ее; разговор ее не повторяет того, что слышу я от других; она не ищет высказаться, и не заметить ее невозможно»[35].
Именно такие люди, как Дубельт, очень нужны были Бенкендорфу. Без его связей и знакомств с бывшими кумирами он был бы менее ценен; дело, разумеется, не только в том, что при таких сотрудниках больше известно об их друзьях. Просто Дубельт лучше послужит, чем, например, его прежний начальник генерал Желтухин (впрочем, способности последнего тоже могут теперь развернуться, но на своем поприще).
Вот каким путем Леонтий Васильевич Дубельт стал жандармом; Анна Николаевна же в одном из первых писем (из лернеровских пачек) разговаривает с мужем так:
«Не оставь этого дела без внимания, прошу тебя. Все страждущие имеют право на наше участие и помощь. Тебе бог послал твое место именно для того, чтобы ты был всеобщим благодетелем…»
Дубельт уже настолько известен и влиятелен, что молодые смутьяны (вроде Герцена, Огарева), упоминая возведенного революцией на престол французского короля Луи‑ Филиипа, для маскировки от «всеслышащих ушей» именуют его «Леонтием Васильевичем»…
Теперь действующие лица, а также обстоятельства времени обрисованы – и можно углубиться в почтовые листки, доставлявшиеся раз в неделю или несколько чаще в Петербург из барского дома в селе Рыскине (недалеко от Вышнего Волочка, Выдропуска и других «радищевских станций» между Петербургом и Москвой). Письма идут дня четыре (пятого июля пришло письмо от первого), но «в распутицу за письмом не пошлешь», поэтому хорошо, что «жандарм твой из Москвы приехал сюда сейчас, и я с ним пишу это письмо»; однако штаб‑ офицеру корпуса жандармов угрожает трехдневный арест «не на хлебе и воде, а на бумаге и чернилах за то, что ваша дражайшая половина, то есть сожительница, проезжая Вышний Волочек, не получила от вас письма…».
Постепенно читающего обволакивает атмосфера медлительного усадебного быта далеких‑ далеких 30‑ х годов XIX века… «Обед и чай на балконе…», «Ливреи на медвежьем меху…», «Какая‑ то Анна Прокофьевна, гостящая вместе со Степаном Поликарповичем…», «Гуляние в саду, поднявши платье от мокроты и в калошах…», «Повар Павел, который не привык захаживать в дом с парадного крыльца», и «когда в торжественный день закрыли черный ход, то заблудился с шоколадом, коего ждали, в залах (смеху было)…», «На днях была очень холодная ночь, почти мороз; этим холодом выжало нежный, сладкий сок из молодых колосьев; сок потек по колосьям как мед; в колосьях те зерна, откуда вытек сок, пропали, народ говорит, что это сошла на рожь медовая роса» (к этому письму приложен рыскинский колос, «чтоб ты видел, как он хорош») – и, кстати, «цветник перед балконом сделан в честь твоей треугольной шляпы…».
Треугольная шляпа напоминает в рыскинской глуши о столичной службе. Пока что петербургское обзаведение полковника довольно убыточно и требует энергичного хозяйствования полковницы: «Машинька привезла мне счастье, только она приехала, и деньги появились, продала я ржи 60 четвертей за 930 рублей». Мужу тут же посылается 720 (с пояснением, что «по петербургскому курсу это 675 рублей», очевидно, ассигнациями – или 180 целковых). Оказывается, глава семьи «купил сани и заплатил 550 рублей ассигнациями». В этот момент (октябрь 1835 г. ) у них еще «двадцать пять тысяч долгов», а 22 ноября того же года – «67 тысяч…».
Помещица прикупает земли к своим владениям Рыскино и Власово, властно руководит всеми финансами: тверские души и десятины – это ее приданое; мужу пишет: «Лева, ты не знаешь наших счетов». Она совсем не смущается «астрономическими долгами», явно ждет скорых больших поступлений и уверена в обеспеченном будущем двух сыновей (Николаю – 14, Михаилу – 3 года): «Наш малютка очень здоров, весел… каждый день становится милее. Даже мужики им любуются, а он совсем их не боится, и когда увидит мужика, особливо старосту нашего Евстигнея, которого встречает чаще других, то закричит от радости, и, указывая на его бороду, кричит „кис, кис“ и всем велит гладить его бороду и удивляется, что никто его только в этом случае не слушает. Тут он начинает привлекать к себе внимание старосты, станет делать перед ним все свои штуки и стрелять в него ппа! , чтоб он пугался, и начнет почти у его ног в землю кланяться (молиться богу). Потому что его все за это хвалят, то он думает, что и староста станет хвалить его; а штука‑ то ведь в том, что при мне Евстигней стоит вытянувшись и не смеет поиграть с ребенком, который, не понимая причины его бесчувственности и думая, что он не примечен старостою, потому сам не довольно любезен, всеми силами любезничает, хохочет, делает гримасы и проч., – умора на него смотреть».
Так выглядела семейная идиллия в середине июля 1835 года, в те самые дни, когда Пушкин (он жил тогда на Черной речке, на даче Миллера) ждал ответа на письмо к графу Бенкендорфу с просьбой о позволении удалиться на три‑ четыре года в деревню.
Впрочем, и здесь, в Рыскине, не хлебом единым сыты хозяева. В Петербург отправляются 4 тома «Adé le et Theodore» для возвращения Плюшару: книгоиздатель является библиотекарем помещичьих усадеб. Дубельту напоминается, что «28 июня истекает билет Плюшару, надо снова абонироваться». Кстати, Анна Николаевна не только читательница, но и автор.
30 мая 1833 года. «Ты пишешь, что тебе пришлют для корректуры листы моего романа „Думаю я про себя“, – пожалуйста, поправляй осторожно, чтоб не исправить навыворот. Это перевод с английского, II том оригинальный, аглицкий, у Смирдина».
Через месяц с небольшим мы узнаем, что помещица дает советы и по издательской части: ее перевод вышел, но, видимо, худо расходится. «Надо просто делать, как делают другие: объявить самому в газетах на свой счет да самому и похвалить; по крайней мере, хоть объявлять почаще. Надо раздать и книгопродавцам; и на буксир потянуть Андрея Глазунова, нашего приятеля». Тут уже ясна надежда жены на возрастающее влияние супруга (последние строки отчеркнуты дубельтовским карандашом, то есть приняты к сведению для дела).
В литературном мире не один книготорговец Андрей Глазунов – приятель.
24 июля 1833 года. «Благодарю тебя, дружочек, за письма твои из Гатчины и Красного Села. Описание кадетского праздника, которое вы сочинили с Гречем, прекрасно; только мне не нравятся эти слова в конце: „Приидите и узрите! “»
Оказывается, и Дубельт попал в сочинители да еще выступал совместно с таким профессионалом, как Николай Греч!
С годами он все больше и чаще вникает в литературные дела, и в своем ведомстве – один из самых просвещенных.
«Многие упрямые русские, – записывает позже Дубельт в дневнике, – жалуются на просвещение и говорят: „Вот до чего доводит оно! “ Я с ними не согласен. Тут не просвещение виновато, а недостаток истинного просвещения… Граф Бенкендорф, граф Канкрин, граф Орлов, граф Киселев, граф Блудов, граф Адлерберг люди очень просвещенные, а разве просвещение сделало их худыми людьми? »
«Ложное просвещение» Дубельт не принимал ни за какие красоты и достоинства:
«Я ничего не читал прекраснее этой статьи. Статья безусловно прекрасна, но будет ли существенная польза, если ее напечатают? » – так аттестует он представленную ему на просмотр рукопись В. А. Жуковского о ранней русской истории – и заканчивает: «Сочинитель статьи останавливается и, описав темные времена быта России, не хочет говорить о ее светлом времени – жаль! »
Статья не пошла в печать, по при этом с Жуковским сохранились весьма добрые отношения: поэт в письмах называл Дубельта «дядюшкой», посвятил ему стихи.
С Пушкиным отношения были похуже. Первый документ, подписанный Дубельтом для сведения «Его Высокоблагородия камер‑ юнкера Пушкина», отражает ситуацию как будто вполне мирную, благодушную:
|
|
|


