 |
Отношения времени во французском глаголе
|
|
|
|
Совокупность личных форм французского глагола традиционно подразделяется на определенное число временных парадигм, называемых present «настоящее время»; imparfait «имперфект», «прошедшее несовершенное»; passe defini «прошедшее совершенное», и т. д., которые в свою очередь распределяются по трем общим категориям времени — настоящее, прошедшее, будущее. Эта схема, бесспорная в основном принципе, оказывается, однако, далекой от реальных употреблений и недостаточной для их систематизации. Одно понятие времени не составляет еще критерия для определения статуса или возможности появления той или иной формы в глагольной системе. Как узнать, например, принадлежит ли il allait sortir к парадигме глагола sortir? На основании какой временной классификации можно решить, принять ли данную форму или отбросить?
Попытки свести оппозиции, проявляющиеся в материальной структуре глагольных форм, к временным различиям также наталкиваются на большие трудности. Рассмотрим, например, оппозицию простых и сложных глагольных форм. Если il courait — il avait couru противопоставляются друг другу, то, во всяком случае, не на той же временной оси, что il courait — il court. И тем не менее il a couru в некотором роде тоже является временной формой, поскольку может быть эквивалентно форме il courut. Но в то же время il a couru связано с il court. Таким образом, отношения сложных глагольных форм к понятию времени двусмысленны. Можно, конечно, отнести различие простых и сложных глагольных форм на счет «вида», но выигрыша в ясности от этого не будет, так как и категория вида не дает однозначного принципа корреляции двух указанных типов форм, и по-прежнему остается фактом, что некоторые — но только некоторые — сложные формы следует рассматривать как временные.
|
|
|
Задача состоит, таким образом, в том, чтобы найти в синхронной картине глагольной системы современного французского языка отношения, связывающие различные временные формы. Истинная природа искомых связей приоткрывается в том месте, где, как на горном склоне, глубинные слои выходят на поверхность. Существует точка, в которой система становится непозволительно избыточной; это временное выражение «прошедшего», располагающее двумя формами: il fit и il a fait. В традиционном понимании это два варианта одной и той же формы, из которых выбирают il fit для письменной речи и il a fait для устной. В таком случае мы, по-видимому, имеем здесь признак переходной стадии в развитии языка: форма более раннего этапа (il fit) сохраняется в письменном языке, более консервативном, в то время как разговорный язык заблаговременно указывает на форму заместителя (il a fait), которая утвердилась в конкурентной борьбе и которой предназначено победить. Но прежде чем свести данное явление к периодам последовательного процесса, следует спросить себя, почему устный язык и письменный язык расходятся именно в этой, а не в какой-либо другой точке временных отношений, почему то же самое расхождение не распространяется на другие параллельные формы (например, il fera и il aura fait и др. остаются совершенно различными) и, прежде всего, подтверждает ли более пристальный анализ то схематическое распределение временных противопоставлений, к которому мы привыкли. От вопроса к вопросу вся структура глагола оказывается подвергнутой рассмотрению заново. Нам кажется, что описание временных отношений представляет собой самую насущную задачу.
Парадигмы существующих грамматик заставляют считать, что все глагольные формы, произведенные от одной основы, принадлежат к одному спряжению уже в силу своей морфологической структуры. Мы же хотим здесь показать, что система глагольных времен строится на менее очевидных и более сложных принципах. Времена одного глагола во французском языке в их употреблении не являются элементами одной системы, они распределяются по двум различным взаимодополнительным системам. Каждая из этих систем включает только часть глагольных времен, обе находятся в конкурентном употреблении и одновременно оказываются в распоряжении каждого говорящего. Эти две системы представляют два различных плана сообщения, которые мы будем различать как план истории и план речи.
|
|
|
Исторический план сообщения, в настоящее время закрепленный за письменным языком, характеризует повествование о событиях прошлого. Следует также подчеркнуть эти три термина — «повествование», «событие», «прошлое». Речь при этом идет о передаче фактов, происшедших в определенный момент времени, без какого-либо вмешательства в повествование со стороны говорящего. Чтобы быть зафиксированными как уже происшедшее, эти факты должны принадлежать прошлому. Лучше было бы сказать, по-ви-
 |
| ? Пример формы «проспектива», см. выше, стр. 272. |
димому, так: с того момента, как факты зарегистрированы и переданы в историческом плане сообщения, они тем самым характеризуются как прошлое. Историческая целевая установка составляет одну из важных функций языка; эта функция сообщает языку особые временные характеристики, формальные признаки которых нам предстоит теперь выявить.
Исторический план сообщения характеризуется тем, что он накладывает ограничение на две совместно взятые глагольные категории — категорию времени и категорию лица. Мы определяем исторический план как способ высказывания, исключающий какую бы то ни было «автобиографическую» языковую форму. Историк никогда не скажет я, ты, здесь, сейчас, так как он никогда не пользуется формальным аппаратом речевого плана, который состоит в первую очередь в противопоставлении лиц я: ты. Поэтому в последовательном историческом повествовании окажутся возможными только формы «третьего лица» х.
Определим таким же образом поле выражения временных отношений. Исторический план включает три времени: аорист ^passe simple, или passe defini) 2, имперфект (imparfait, включая форму на -rait, называемую conditionnel), плюсквамперфект (plus-que-parfait). В ограниченных пределах, как вспомогательное средство, можно отнести к историческому плану также описательную форму, являющуюся субститутом будущего времени, которую мы назовем проспективом (prospectif). Настоящее время (present) исключается, кроме очень редких случаев настоящего вневременного, как, например, «настоящее время определений» 3.
|
|
|
Чтобы лучше обрисовать «исторический» остов глагола, приведем три взятых наугад повествовательных отрывка: первые два принадлежат одному и тому же историку, но разным жанрам, третий взят из художественной литературы *. Мы выделили все личные глагольные формы, относящиеся к перечисленным выше временам,
| Pour devenir les maitres du marche mediterraneen, les Grecs deployment une audace et une perseverance incomparables. De- |
Желая стать хозяевами средиземноморского рынка, греки проявили необыкновенную смелость и настойчивость. Со вре-
1 Сошлемся здесь на различия, выявленные в одной из статей BSL, XVIII,
стр. 1 и ел., см. выше, стр. 259 и ел.
2 Мы надеемся, что не будет признано неуместным назвать аористом passe
simple, или passe defini, наших грамматик. Термин «аорист» не имеет достаточно
различающихся и достаточно четких ассоциаций, чтобы вызвать здесь неясность;
мы предпочитаем его термину «претерит», который может быть смешан с «про
шедшим неопределенным» — imparfait.
8 Мы оставляем целиком в стороне модальные формы глагола, а также и именные (инфинитив, причастия). Все, что сказано здесь о временных отношениях, равно относится и к этим формам.
4 Разумеется, историческое выражение событий не зависит от их «объективной истинности». Имеет значение только «историческое намерение» писателя.
puis la disparition des marines minoenne et mycenienne, l'Egee etait infestee par des bandes de pirates: il n'y eut longtemps que des Sidoniens pour oser s'y aven-turer. Les Grecs finirent pour-tant par se debarrasser de cette plaie: ils donnerent la chasse aux ecumeurs de rivages, qui durent transferer le principal the-аЧге de leurs exploits dans l'Ad-riatique. Quant aux Pheniciens qui avaient fait profiter les Grecs de leur experience et leur avaient appris l'utilite commerciale de l'ecriture, ils furent evinces des cdtes de l'lonie et chasses des pecheries de pourpre egeennes; ils trouverent des concurrents a Cypre et jusque dans leurs pro-pres villes. Ils porterent alors leurs regards vers l'Ouest; mais la encore les Grecs, bientot in-stalles en Sicile, separerent de la metropole orientale les colonies pheniciennes d'Espagne et d'Af-rique. Entre l'Aryen et le Semite, la lutte commerciale ne devait cesser 6 dans les mers du Couchant qu'a la chute de Carthage.
|
|
|
| Histoire grecque, |
(G. G 1 о t z, 1925, p. 225.)
Quand Solon eut accompli sa mission, il fit jurer aux neufs archontes et a tous les citoyens de se conformer a ses lois, ser-ment qui fut desormais prete tous les ans par les Atheniens promus a la majorite civique. Pour prevenir les lutter intestines et les revolutions, il avait prescrit, a tous les membres de la cite, comme une obligation
мени исчезновения минойского и микенского флотов Эгейское море кишело пиратскими бандами: в течение долгого времени только жители Сидона осмеливались там показаться. В конечном итоге греки, однако, избавились от этого бедствия: они стали преследовать корсаров, и тем пришлось перенести основные действия в Адриатику. Что же касается финикийцев, ранее передавших грекам свой опыт и навыки использования письма в торговых целях, то они были вытеснены с Ионийского побережья и из мест ловли пурпуровых раковин в Эгейском море; они натолкнулись на конкуренцию на Кипре и даже в своих собственных городах. Тогда они обратили взгляды на Запад. Но и там греки, вскоре обосновавшиеся в Сицилии, отрезали от восточной метрополии финикийские колонии Испании и Африки. Борьбе между индоевропейцами и семитами за преобладание в торговле на западных морях суждено былоъ продолжаться до падения Карфагена. (Г. Г л о т ц, История Греции, 1925, стр. 225.)
Когда Солон выполнил свою миссию, он заставил новых архонтов и всех граждан присягнуть в верности своим законам. Отныне такую присягу должны были давать всё афиняне, достигшие гражданского совершеннолетия. Чтобы предотвратить гражданские войны и революции, он предписал всем гражданам полиса — в качестве обя-
 |
| 6 Вторжение плана речи в план повествования, с соответствующим изменением времен. |
| ' О непрямой речи см. ниже, стр. 277. |
| 8 Размышление автора, выходящее из плана повествования. |
correspondant a leurs droits, de se ranger en cas de troubles dans l'un des partis opposes, sous peine d'atimie entratnant l'ex-clusion de la communaute: il comptait qu'en sortant de la neutralite les hommes exempts de passion formeraient une ma-jorite suffisante pour arreter les perturbateurs de la paix publique. Les craintes etaient justes; les precautions furent vaines. Solon ri1 avait satisfait ni les riches ni la masse pauvre ef disait triste-ment: «Quand on fait de gran-des choses, il est difficile de plai-re a tous6.» II etait encore ar-chonte qu'il etait assailli par les invectives des mecontents; quand il fut sorti de charge, ce fut un dechainement de reproches et d'accusations. Solon se defen-dit, comme toujours, par des vers: c'est alors qu'il invoqua le temoignage de la Terre Mere. On Vaccablait d'insultes et de moqueries parce que «le coeur lui avait manque» pour se faire tyran, parce qu'il n'avait pas voulu, «pour etre le maitre d'Athenes, ne fut-ce qu'un jour, que de sa peau ecorchee on fit une outre et que sa race fut abo-lie '». Entoure d'ennemis, mais resolu a ne rien changer de ce qu'il avait fait, croyant peut-etre aussi que son absence calmerait les esprits, il decida de quitter Athenes. II voyageq, il parut a Cypre, il alia 'en Egypte se re-tremper aux sources de la sagesse. Quand il revint, la lutte des partis etait plus vive que jamais. II se retira de la vie publique et
|
|
|
занности, соответствующей их правам,— вступать в случае волнений в одну из борющихся партий под угрозой атимии, влекущей за собой исключение из полиса: он рассчитывал, что люди, свободные от политических страстей, перестав быть нейтральными, составят большинство, достаточное для подавления возмутителей общественного спокойствия. Опасения были справедливы, меры предосторожности оказались тщетными. Солон не удовлетворил ни богачей, ни массы бедняков, и он с грустью говорил: «Когда совершаешь великие дела, трудно угодить всем» в. Еще будучи архонтом, Солон подвергался нападкам недовольных; после снятия полномочий на него обрушился поток упреков и обвинений. Солон оборонялся от них, как всегда, с помощью стихов: именно в этот момент он сослался на свидетельство матери Земли. Его осыпали оскорблениями и насмешками за то, что «ему не хватило мужества», чтобы стать тираном, что он не захотел — ради того, чтобы «сделаться господином Афин, пусть хоть на день,— чтобы из его содранной кожи сделали потом бурдюк, а весь его род был уничтожен» 7. Окруженный врагами, но решивший ничего не изменять из того, что было сделано, надеясь также, может быть, на то, что его отсутствие успокоит взбудораженные умы, он решился покинуть Афины. Он много путешествовал, побывал на Кипре,
s'enferma dans un repos inquiet: il «vieillissait en apprenant toujours et beaucoup», sans cesser de tendre l'oreille aux bruits du dehors et de prodiguer les aver-tissements d'un patriotisme alar-me. Mais Solon n'etait qu'un homme; il ne lui appartenait pas d'arreter le cours des evene-ments. II vecut assez pour assis-ter a la ruine de la constitution qu'il croyait avoir affermie et voir s'etendre sur sa chere cite l'ombre pesante de la tyrannie.
(Ibid, p. 441—442.)
Apres un tour de galerie, le jeune homme regarda tour a tour le ciel et sa montre, fit un geste d'impatience, entra dans un bureau de tabac, у alluma un ciga-re, se posa devant une glace, et jeta un regard sur son costume, un peu plus riche que ne le per-mettent8 en France les lois du gout. II rajusta son col et son gilet de velours noir sur lequel se croisait plusieurs fois une de ces grosses chaines d'or fabri-quees a Genes; puis, apres avoir jete par un seul mouvement sur son epaule gauche son manteau double de velours en le drapant avec elegance, il reprit sa promenade sans se laisser distraire par les oeillades bourgeoises qu'il recevait. Quand les boutiques com-
ездил в Египет заново приобщиться к истокам мудрости. Когда он вернулся, борьба партий была еще более ожесточенной, чем когда-либо раньше. Он удалился от общественной жизни на покой, но покой, полный волнений: он «старел, но по-прежнему уделял много времени изучению различных вещей». Он не переставал прислушиваться к тому, что происходило за стенами его дома и, оставаясь патриотом, подавал сигналы тревоги. Но Солон был всего только человеком, и ему не дано было остановить ход событий. Он дожил до падения конституции, которую, как он надеялся, ему удалось укрепить, и увидел, как над дорогой его сердцу общиной нависла мрачная тень тирании. (Там же, стр. 441—442.)
Пройдясь по галерее, молодой человек достал из кармана часы, поглядел на циферблат, а затем на небо и досадливо щелкнул пальцами, после чего вошел в табачную лавку, зажег там от горевшей свечи сигару, встал перед зеркалом и, осмотрев свое одеяние, несколько более богатое, чем это дозволяется 8 во Франции законами хорошего вкуса, поправил воротник фрака и черный бархатный жилет, по которому в три ряда была пущена толстая золотая цепочка, несомненно генуэзской работы, затем он ловким движением набросил на левое плечо теплый плащ, подбитый бархатом, изящно задрапировался в него и возобновил свою прогулку,
 | ||
 |
| mencerent a s'illuminer et que la nuit lui parut assez noire, il se dirigea vers la place du Palais-Royal en homme qui craignait d'etre reconnu, car il со toy a la place jusqu'a la fontaine, pour gagner a 1'abri des fiacres Г entree de la rue Froidmanteau... (Balzac, Etudes philosophi-ques: Gambara.) |
не обращая внимания на мещаночек, строивших ему глазки. Когда в лавках стали зажигаться огни, а на улице, по его мнению, достаточно стемнело, он направился к площади Пале-Руаяль и словно опасался, как бы его не узнали: он обогнул площадь, но, дойдя до фонтана, юркнул за вереницу фиакров и под этим прикрытием свернул на улицу Фруаманто. (О. Бальзак, Гамбара.— Собр. соч., т. 20, стр. 423.)
Мы видим, что в этом плане высказывания набор времен и их характер остаются неизменными. Нет никаких причин к тому, чтобы они менялись по мере развития исторического повествования, нет и никаких причин к тому, чтобы это повествование прекратилось, потому что все прошлое мира можно представить как один непрерывный рассказ, который будет построен целиком на этом отношении трех времен: аорист, имперфект, плюсквамперфект. Необходимо и достаточно, чтобы автор оставался верен своей установке на исторический план повествования и чтобы он исключил все, что является посторонним для рассказа о происшедшем (речи, размышления, сравнения). По сути дела, в историческом повествовании нет больше и самого рассказчика. События изложены так, как они происходили по мере появления на исторической арене. Никто ни о чем не говорит, кажется, что события рассказывают о себе сами. Основное время — аорист, которое является временем события независимо от рассказчика.
Выше мы сразу, для противопоставления, ввели план речи. Речь следует понимать при этом в самом широком смысле, как всякое высказывание, предполагающее говорящего и слушающего и намерение первого определенным образом воздействовать на второго. В это понятие входит прежде всего все разнообразие различных жанров устного общения, от бытового разговора до торжественной ораторской речи. Но это также и многочисленные письменные формы, которые воспроизводят устную речь или заимствуют ее манеру и цели: письма, мемуары, драматическая литература, учебная литература — одним словом, все те жанры, где кто-то обращается к кому-то, становится отправителем речи и организует высказываемое в формах категории лица. Таким образом, различие, которое мы проводим между историческим повествованием и речью, никоим образом не совпадает с различием между письменной и устной разновидностями языка. Историческое повествование закреплено в наши дни за письменным языком. Речь же существует
равно в письменной и устной формах. На практике мы то и дело мгновенно переходим от одной формы к другой. Всякий раз, как внутри исторического повествования появляется отрезок речевого плана, например, когда историк передает слова какого-либо лица или когда он выступает сам с оценкой излагаемых событий 9, происходит переход в другую временную систему, систему речи. Возможность таких мгновенных переходов составляет характерное свойство языка.
Заметим попутно, что исторический и речевой планы при случае могут смешиваться, образуя третий тип, в котором речь передается в терминах событий и переносится в исторический план: это то, что обычно называют «косвенной речью». Правила такого перехода вызывают ряд проблем, которые мы здесь рассматривать не будем.
Выбором глагольных времен речевой план резко отличается от исторического повествования 10. Речь свободно оперирует всеми личными формами глагола, первым и вторым лицом (je «я», tu «ты»), так же как и третьим (il «он»); в явной или неявной форме отношение к лицу присутствует в ней всегда. Поэтому «третье лицо» не имеет здесь того же значения, что в историческом повествовании. Так как в последнем сам рассказчик не выступает, то третье лицо не противопоставлено там никакому другому, оно есть, по существу, отсутствие лица. В плане же речи говорящий противопоставляет не-лицо он лицу я/ты. Набор глагольных времен также гораздо шире в речи; по сути дела, здесь возможны все времена, за исключением одного, аориста, изгнанного в наши дни из этого плана и являющегося типичной формой плана исторического. Необходимо особенно подчеркнуть три основных времени плана речи: настоящее (present), будущее (futur), перфект (parfait), ни одно из них не употребляется в историческом повествовании (за исключением плюсквамперфекта — plus-que-parfait). Общим для обоих планов является имперфект (imparfait).
Проведенное нами различие внутри языка между двумя планами высказывания раскрывает в новом аспекте явление, которое уже пятьдесят лет назад было определено как «исчезновение простых форм претерита» u во французском языке. Термин «исчезновение» следует признать безусловно неудачным. Форма исчезает лишь в том случае, если отпадает необходимость в ее функции или
 8 Этот случай указан выше, см. сноску 8 на стр. 275.
8 Этот случай указан выше, см. сноску 8 на стр. 275.
10 Мы всюду говорим о временах «исторического повествования», чтобы избе
жать термина «повествовательные времена», который вызвал такую терминологи
ческую путаницу. С намеченной нами точки зрения аорист является «повествова
тельным временем», но перфект также может быть повествовательным временем,
а это скрыло бы основное различие между двумя планами высказывания.
11 Таково название одной из статей А. Мейе, опубликованной в 1909 г. и во
шедшей впоследствии в его книгу «Общее и историческое языкознание» («Linguisti-
que historique et linguistique generale», I, стр. 149 и ел.).
 если другая форма выполняет эту функцию лучше. Поэтому следует уточнить положение аориста по отношению к двойной системе форм и функций французского глагола. Необходимо указать два различных ряда отношений. С одной стороны, и это бесспорный факт, аорист не употребляется в разговорном языке, он не входит в систему времен плана речи. С другой стороны, как время исторического повествования, аорист прочно удерживается, ему ничто не угрожает ни с какой стороны, и нет никакого другого времени, которое могло бы его заменить. Тем, кто считает, что аорист находится на пути вымирания, достаточно проделать опыт — попробовать заменить в процитированных выше отрывках аорист перфектом. Результат окажется таков, что ни один автор никогда не решится представить историю в подобной форме. Заведомо можно утверждать, что всякий, умеющий писать и ставящий себе целью описание событий прошлого, спонтанно употребит в качестве основного времени аорист, независимо от того, воссоздает ли он эти события как историк или создает их как писатель. Желая избежать однообразия, он может изменять тон, избирать различные точки зрения и употреблять другие времена, но тогда он выходит из плана исторического повествования. Нам нужны были бы точные статистические данные, основанные на обследовании текстов различных видов, книг и газет, нужно сравнение употребления аориста пятьдесят лет назад с современным, чтобы установить с очевидностью для всех, что это глагольное время в строго определенных условиях своей языковой функции остается столь же необходимым, как и прежде. В тексты, взятые для доказательства, необходимо было бы включить и переводы, ибо переводы показывают, какие эквиваленты автор спонтанно находит для передачи повествования, написанного на другом языке, во временной системе, свойственной французскому языку 12.
если другая форма выполняет эту функцию лучше. Поэтому следует уточнить положение аориста по отношению к двойной системе форм и функций французского глагола. Необходимо указать два различных ряда отношений. С одной стороны, и это бесспорный факт, аорист не употребляется в разговорном языке, он не входит в систему времен плана речи. С другой стороны, как время исторического повествования, аорист прочно удерживается, ему ничто не угрожает ни с какой стороны, и нет никакого другого времени, которое могло бы его заменить. Тем, кто считает, что аорист находится на пути вымирания, достаточно проделать опыт — попробовать заменить в процитированных выше отрывках аорист перфектом. Результат окажется таков, что ни один автор никогда не решится представить историю в подобной форме. Заведомо можно утверждать, что всякий, умеющий писать и ставящий себе целью описание событий прошлого, спонтанно употребит в качестве основного времени аорист, независимо от того, воссоздает ли он эти события как историк или создает их как писатель. Желая избежать однообразия, он может изменять тон, избирать различные точки зрения и употреблять другие времена, но тогда он выходит из плана исторического повествования. Нам нужны были бы точные статистические данные, основанные на обследовании текстов различных видов, книг и газет, нужно сравнение употребления аориста пятьдесят лет назад с современным, чтобы установить с очевидностью для всех, что это глагольное время в строго определенных условиях своей языковой функции остается столь же необходимым, как и прежде. В тексты, взятые для доказательства, необходимо было бы включить и переводы, ибо переводы показывают, какие эквиваленты автор спонтанно находит для передачи повествования, написанного на другом языке, во временной системе, свойственной французскому языку 12.
Напротив, статистика засвидетельствовала бы редкость исторических повествований, выдержанных целиком в форме перфекта, и показала бы, сколь мало перфект приемлем для передачи объективной связи событий. Каждый может проверить это на примере какого-нибудь современного произведения, где повествование намеренно ведется целиком в перфекте 13. Интересно было бы про-
 12 Приведем два примера из недавних переводов. Переводчик новеллы Эрнеста
12 Приведем два примера из недавних переводов. Переводчик новеллы Эрнеста
Хемингуэя «La Grande Riviere au coeur double» (во французском издании сборник
озаглавлен «Paradis perdu», Paris, 1949) на протяжении сорока страниц употреб
ляет аорист (наряду с imparfait и plus-que-parfait). За исключением двух-трех фраз
внутреннего монолога, повествование передано на французском языке целиком
в этом временном плане, так как никакой другой не возможен. То же самое во
французском переводе книги Т. Хейердала «Путешествие на Кон-Тики» («L'expedi-
tion du Kon-Tiki»): аорист, непрерывно употребляемый на протяжении целых глав,
представляет там наибольшую часть повествования.
13 Например, «Посторонний» («L'Etranger») Альбера Камю. Исключительное
употребление в этом рассказе перфекта как времени событий с большой тонкостью
проанализировано, — правда, с иной точки зрения — Ж.-П. Сартром («Situations»,
I, стр. 117—118).
анализировать стилистический эффект, возникающий при этом из контраста между тоном повествования, как бы объективного, и формой выражения — перфектом 1-го лица,— формой по преимуществу автобиографической. Перфект устанавливает непосредственную связь между событием прошлого и настоящим моментом, в который событие вызывается в представлении говорящих. Пользующийся перфектом тем самым передает факты как свидетель, как участник, пеэтому его употребит также всякий, кто желает вызвать у нас отклик на рассказываемое событие, соединить его с нашим настоящим. Как и настоящее, перфект принадлежит к системе речи, поскольку его временной отметкой является момент речи, тогда как временной отметкой аориста является момент события.
Кроме того, не следует рассматривать аорист как единое целое во всей его парадигме. Здесь также граница проходит внутри парадигмы и разделяет два временных плана разным набором личных местоимений. План речи исключает аорист, но историческое повествование, прибегая к нему постоянно, сохраняет только формы 3-го лица w. Как следствие этого, nous arrivames «мы прибыли» и особенно vous arrivates «вы прибыли» не встречаются ни в историческом повествовании, будучи личными формами, ни в речи, будучи формами аориста. Напротив, il arriva, ils arriverent «он прибыл, они прибыли» под пером историка возникают постоянно и не имеют субститутов.
Два плана высказывания характеризуются, таким образом, определенными положительными и отрицательными чертами:
— в историческом плане допускаются (в формах 3-го лица):
аорист, имперфект, плюсквамперфект и проспектив; исключаются:
настоящее, перфект, будущее (простое и сложное);
— в речевом плане допускаются все времена во всех формах;
исключается аорист (простой и сложный).
Исключения здесь столь же важны, как и допустимые для каждого плана времена. Для историка настоящее время 16, перфект и будущее исключаются, так как настоящее лежит в другом измерении и несовместимо с установкой на историю: настоящее время неизбежно оказалось бы в этом случае настоящим по отношению к самому историку, историк же не может сам стать предметом истории, не отказавшись от своей установки. Событие, чтобы стать таковым во временном отношении, должно перестать быть настоящим, оно должно потерять возможность быть сообщаемым, как настоящее. По той же причине исключается будущее, которое
 14 Не следует, однако, понимать это утверждение абсолютно. В романе еще
14 Не следует, однако, понимать это утверждение абсолютно. В романе еще
без натяжки употребляют аорист в первом лице единственного и множественного
числа. Это употребление можно встретить, например, почти на каждой странице
«Большого Мольна» у Алена-Фурнье (Al ain -Fournier, Le Grand Meaulnes),
но в трудах по истории дело обстоит иначе.
15 Мы, разумеется, не говорим здесь о том, что в грамматиках именуют «исто
рическим настоящим» (present historique) и что есть не более как ухищрение стиля.
«79
 есть не что иное, как настоящее, спроецированное в будущее, оно предполагает предписание, обязательство, уверенность, то есть субъективную модальность, а не исторические категории. Когда в повествовании о событиях в прихотливом сплетении исторических фактов вырисовывается событие неизбежное, в котором проглядывает как бы неотвратимость судьбы, историк использует время, названное нами проспективом (il allait partir «ему предстояло уехать», il devait tomber «ему суждено было пасть»). *
есть не что иное, как настоящее, спроецированное в будущее, оно предполагает предписание, обязательство, уверенность, то есть субъективную модальность, а не исторические категории. Когда в повествовании о событиях в прихотливом сплетении исторических фактов вырисовывается событие неизбежное, в котором проглядывает как бы неотвратимость судьбы, историк использует время, названное нами проспективом (il allait partir «ему предстояло уехать», il devait tomber «ему суждено было пасть»). *
В плане речи, напротив, исключения ограничиваются аористом, который является временем историческим по самой своей сути. Введенный в план речи, аорист кажется излишне педантичным и книжным. Для передачи фактов, относящихся к прошедшему, в плане речи используют перфект, который является одновременно и функциональным эквивалентом аориста, то есть временем, и вместе с тем чем-то иным, чем время.
Мы подошли, разбирая перфект, к другой важной проблеме, касающейся как структуры, так и употребления форм: каково соотношение между временами простыми и сложными? Здесь также парадигмы спряжения ничего не говорят о принципе реального распределения времен, поскольку, как мы уже видели, различие между двумя планами накладывается на различие между простыми и сложными временами. Мы уже отмечали ту особенность, что плюсквамперфект Является временем, общим и для речевого и для исторического плана, тогда как перфект принадлежит только плану речи. За этими очевидными несоответствиями просматривается, однако, последовательная структура. Мы не будем оригинальны, если заметим, что простые и сложные времена распадаются на две симметричные группы. Оставляя в стороне именные формы глагола, которые, впрочем, группируются также, как спрягаемые, имеем:
il ecrit il a ecrit
il ecrivait il avait ecrit
il ecrivit il eut ecrit "
il ecrira il aura ecrit "
— систему в развитии, где сложные формы в свою очередь производят другие сложные формы, называемые сверхсложными:
il a ecrit il a eu ecrit
il avait ecrit il avait eu ecrit и т. д.
Этого формального параллелизма двух рядов во всех временах достаточно для утверждения о том, что отношение между простыми и сложными формами само не является отношением временным. И вместе с тем, исключая из этой оппозиции временное
 16 Пример: en un instant il eut ecrit cette lettre «в одну минуту он написал
16 Пример: en un instant il eut ecrit cette lettre «в одну минуту он написал
это письмо».
17 Пример: il aura ecrit cette lettre dans une heure «он напишет (закончит)
это письмо через час»,
отношение, необходимо снова ввести его частично, потому что il a ecrit «он написал» употребляется как временная форма прошедшего. Как выйти из этого противоречия? Только признав его и точно определив. II a ecrit «он написал» (перфект) противопоставлено одновременно il ecrit «он пишет» и il ecrivit «он написал» (аорист), но по-разному. Причина этого заключается в том, что сложные времена имеют двойной статус: они образуют с простыми временами два различных типа отношений.
1. Сложные времена противопоставляются по одному простым
временам таким образом, что каждое сложное время является кор
релятом в перфекте соответствующему простому времени.^ Мы
называем «перфектом» весь класс сложных форм (с avoir и etre),
функция которых — если определять ее в общих чертах, чем здесь
можно ограничиться,— состоит в том, чтобы представлять дейст
вие как «совершенное» по отношению к рассматриваемому моменту
и «актуальную» ситуацию как следствие этого действия, завер
шенного во времени.
Формы перфекта выделяются на основе формального критерия: они всегда могут выступать как сказуемые независимого предложения. Сгруппируем их в следующий ряд:
перфект настоящего (parfait de present): il a ecrit перфект имперфекта (parfait d'iraparfait): il avait ecrit перфект аориста (parfait d'aoriste): il eut ecrit перфект будущего (parfait de futur): il aura ecrit.
2. Сложные времена имеют и другую функцию, отличную от
предыдущей: они обозначают предшествование (anteriorite). Этот
термин легко оспаривать, но мы не находим лучшего. С нашей
точки зрения, предшествование определяется всегда и исключи
тельно по отношению к соотнесенному с ним простому времени.
Предшествование выражает логическое и внутриязыковое, отно
шение и не отражает хронологического отношения объективной
действительности. Предшествование как внутриязыковая кате
гория сохраняет процесс в том же времени, которое выражено
соотносительной простой формой. Мы имеем здесь категорию, при
сущую именно языку, в высшей степени оригинальную, не имею
щую эквивалента во времени реального физического мира. Необ
ходимо отбросить приблизительные определения категории пред
шествования, которые даются в таких довольно распространенных
терминах, как passe du passe («прошедшее прошедшего»), passe
du futur («прошедшее будущего») и т. п., на самом деле лишенных
смысла: существует только одно прошедшее, и оно не поддается
никакому дроблению на разряды; «прошедшее прошедшего» столь
же невразумительно, как «бесконечное бесконечного».
Формы предшествования имеют двойной формальный показатель: 1) они не могут выступать как независимые формы; 2) они должны употребляться совместно с простыми глагольными формами того же временного уровня. Формы предшествования встречаются
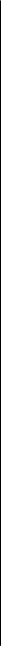 |
 в придаточных предложениях, вводимых такими союзами, как quand «когда». Их можно распределить следующим образом:
в придаточных предложениях, вводимых такими союзами, как quand «когда». Их можно распределить следующим образом:
предшествование к настоящему (anterieur de present): quand il a ecrit une lettre (il l'envoie) тогда он написал письмо (он его отправляет)»;
предшествование к имперфекту (anterieur d'imparfait): quand il avait ecrit une lettre (il l'envoyait) «когда он заканчивал писание письма (он его отправлял)»;
предшествование к аористу (anterieur d'aoriste): quand il eut ecrit... (il l'envoya) «когда он написал... (он его отправил)»;
предшествование к будущему (anterieur de futur): quand il aura ecrit... (il l'enverra) «когда он напишет... (он его отправит)».
Доказательством того, что категория предшествования сама по себе не содержит никакого указания на время, служит тот факт, что формы предшествования должны синтаксически опираться на соответствующие свободные временные формы, по соотношению с которыми формы предшествования принимают формальную структуру, устанавливаются на том же временном уровне и начинают выполнять свою собственную функцию. Вот почему невозможны такие сочетания, как quand il a ecrit..., il envoya.
Сложные времена, независимо от того, обозначают ли они совершенность или предшествование, распределяются по двум планам сообщения так же, как простые времена: одни из них принадлежат плану речи, другие— плану повествования. Чтобы не утверждать голословно, обратимся снова к формам третьего лица, общим для обоих планов. Принцип распределения тот же самый: quand il a fini son travail, il rentre chez lui «когда он кончил работу, он возвращается домой» принадлежит плану речи благодаря наличию настоящего времени, а также формы предшествования к настоящему; quand il eut fini... il rentra «когда он кончил... он вернулся» относится к историческому плану — из-за наличия аориста и предшествования к аористу.
Еще один признак подтверждает объективность проводимого нами различия между формами совершенности и формами предшествования. Эти два класса различаются и структурой отношения между временными формами. Внутри категории совершенности отношение между сложными формами симметрично отношению между соответствующими простыми формами: il a ecrit и il avait ecrit соотносятся так же, как il ecrit и il ecrivait. Они противопоставляются, таким образом, на оси времени парадигматическим временным отношением. Формы же предшествования не связываются временным отношением друг с другом. Будучи синтаксически несвободными, они могут образовывать оппозиции только с простыми формами, синтаксическими коррелятами которых они являются. В примере quand il a fait son travail, il part «когда он сделал свою работу, он уходит» предшествование к настоящему — (quand) il a fait — противопоставляется настоящему — il part —
и своим языковым значением оно обязано этому контрасту. Это синтагматическое временное отношение.
Таков двойной статус перфекта. Отсюда вытекает неоднозначное положение некоторых форм, таких, как, например, il avait fait, которая является одновременно членом двух систем. Как форма совершенности (свободная форма) il avait fait противопоставляется в качестве прошедшего несовершенного настоящему — il a fait, аористу — il eut fait и т. д. Но как форма предшествования (связанная форма) (quand) il avait fait противопоставляется свободной форме il faisait и не связывается никаким отношением с формами (quand) il fait, (quand) il a fait и т. д. Синтаксис высказывания определяет принадлежность формы перфекта к одной из этих двух категорий.
Здесь имеет место чрезвычайно важный процесс, относящийся и к развитию языка. Именно функциональное тождество je fis и j'ai fait разграничивает план исторического повествования и план речи. В самом деле, первое лицо je fis не допустимо ни в повествовании, будучи первым лицом, ни в речи, будучи аористом. Но функциональное тождество сохраняется и для других личных форм. Становится понятным, почему je fis было вытеснено формо
|
|
|


