 |
Исполнение ролей и разделение труда
|
|
|
|
Супермен, как и супер-муравей или супер-волк, не могут в принципе существовать в одиночку – только в группе, разнохарактерные члены которой совместно составляют общество, возможности которого превосходят таковые любого мыслимого отдельного организма. Человеческие общества вознеслись до уровня чрезвычайной сложности благодаря интеллекту и гибкости своих членов, которые могут играть поистине любую роль, необходимую в данных обстоятельствах, а если нужно, то и переключаться между ними. Современный человек – актёр многих амплуа, который хорошо умеет выходить за пределы своих возможностей в соответствии с постоянно меняющимися требованиями внешней среды. Как отметил Гоффман (Goffman, 1961), “возможно, временами человек марширует взад-вперед подобно оловянному солдатику, закованный в мундир исполняемой роли. Действительно, иногда мы можем уловить тот момент, когда он полностью “оседлывает” единственную роль (голова поднята, отрешенный взгляд), но уже в следующий момент эта картина рассыпается и личность разбивается на различные персонажи, удерживающие звенья различных сфер жизни с помощью своих рук, своих зубов, своей мимики. При ближайшем рассмотрении индивидуум, всеми способами удерживающий имеющиеся в его в жизни взаимоотношения, просто теряет очертания”. Ничего удивительного в том, что наиболее острой внутренней проблемой современного человека является проблема идентичности.
Роли в человеческих обществах принципиально отличаются от каст социальных насекомых. Члены человеческих обществ иногда тесно сотрудничают, подобно социальным насекомым, но чаще они конкурируют за обладание ограниченными ресурсами, локализованными в их ролевой сфере. Наилучшие и наиболее предприимчивые из исполняющих роли актеров обычно получают непропорциональную долю вознаграждения, при этом наименее успешные отодвинуты на другие, менее приятные, позиции. Кроме того, индивидуумы пытаются повысить свое социально-экономическое положение, меняя роли. Происходит также и соревнование между классами, и в переломные моменты истории это предопределяет общественные перемены.
|
|
|
Ключевой вопрос биологии человека: предопределены ли генетически принадлежность к определенному классу и амплуа жизненной роли? Можно легко себе представить обстоятельства, при которых могла бы происходить такая генетическая дифференциация. Передачи по наследству по крайней мере некоторых параметров интеллекта и эмоциональных особенностей достаточно для соответствия умеренному дизруптивному отбору. Дальберг (Dahlberg, 1947) показал, что если возникает единственный ген, ответственный за успех и возвышение в обществе, он может быть быстро сконцентрирован в высших социально-экономических классах. Предположим, например, что имеются два класса, начавших каждый только с 1% частоты гомозигот по стремящемуся наверх гену. Предположим далее, что в каждом поколении 50% гомозигот из низшего класса перемещаются в высший. Тогда уже в десятом поколении, в зависимости от относительных размеров групп, высший класс будет обладать 20% гомозигот или даже больше, а низший – только 0.5% или меньше. Используя сходный аргумент, Геррнштейн (Herrnstein, 1971b) предположил, что поскольку возможности, определяемые средой, стали почти равным в пределах обществ, разделение на социально-экономические группы будет все более и более определяться генетическими различиями в интеллекте.
Сильный начальный сдвиг в сторону такого расслоения возникает, когда одно человеческая популяция побеждает и порабощает другую – достаточно обычный случай в человеческой истории. Генетические различия в умственных способностях, как бы они ни были малы, стремятся быть сохраненными посредством возведения классовых барьеров, расовой и культурной дискриминации, и физически – с помощью гетто. Генетик Дарлингтон (К.D. Darlington, 1969), среди прочих, предположил, что этот процесс может быть главным источником генетического разнообразия в человеческих обществах.
|
|
|
Все же, несмотря на правдоподобие общих рассуждений, имеется мало свидетельств в пользу какой-либо передачи по наследству устоявшегося статуса. Касты Индии существуют уже в течение 2000 лет, это более чем достаточное время для эволюционной дивергенции, но касты лишь слегка отличаются по типам крови и другим измеримым анатомическим и физиологическим характеристикам. Можно указать на мощные силы, работающие против генетической фиксации кастовых различий. Во-первых, культурная эволюция слишком нестабильна. За десятки лет, максимум – сотни, гетто вытеснены, расы и народы освобождены от плена, завоеватели усмирены. Даже в относительно устойчивых обществах есть многочисленные тропинки наверх. Дщери низших классов стремятся выходить замуж “с повышением”, за мужчин более высокого класса. Успех в коммерческой или политической жизни может перебросить семейство фактически из любой социально-экономической группы в правящий класс за одно-единственное поколение. Более того, имеется много “генов Дальберга”, а не тот один, который мы рассматривали в простейшей модели. Наследственные факторы человеческого успеха чрезвычайно полигенны и образуют длинный список, но лишь малая часть из них изучена. КИ (“коэффициент интеллектуальности”, или “коэффициент умственного развития” – прим. перев. М.П.) – только одно подмножество из многих компонентов интеллекта. Менее доступными измерению, но не менее важными качествами являются творческий потенциал, предприимчивость, настойчивость в достижении цели и умственная работоспособность. Допустим, что поддерживающие эти качества гены рассеяны по многим хромосомам. Предположим также, что некоторые из этих особенностей не коррелируют или даже отрицательно коррелируют друг с другом. При этих обстоятельствах лишь наиболее сильные формы дисруптивного отбора могли привести к формированию устойчивых совокупностей генов. Более правдоподобной выглядит вот какая, по всей видимости, преобладающая ситуация: поддерживается широкое генетическое разнообразие в пределах обществ при слабой связи некоторых генетически обусловленных характеристик с собственно успехом. Этот сложный процесс ускоряется постоянными изменениями в судьбах отдельных семейств от одного поколения к следующему.
|
|
|
Даже в этом случае нельзя игнорировать влияние генетических факторов на усвоение конкретных и отчетливых ролей. Рассмотрим мужской гомосексуализм. Исследования Кинси (Kinsey) и его коллег показали, что в 1940-х гг. приблизительно 10% от достигших сексуальной зрелости мужчин в Соединенных Штатах были главным образом или исключительно гомосексуалистами, по крайней мере, в течение трех лет до опроса (более поздние исследования эту цифру не подтвердили. В 1990-х гг. гомосексуалистов в США насчитали не более 3%. Или времена изменились, или один из опросов был неточен – прим. перев. А.П.). Гомосексуализм также в сравнительно высоких долях присутствует среди мужского населения во многих, если не в большинстве, остальных культурах. Проведенное на близнецах исследование Каллманна (Kallmann) свидетельствует о вероятном существовании генетического предрасположения к этому состоянию. Соответственно, Хатчинсон (Hutchinson, 1959) высказал предположение, что гены гомосексуальности в гетерозиготном состоянии могут придавать их носителю ряд очень полезных качеств. Эта аргументация нашла своих последователей, теперь это – общее место в популяционной генетике. Следствием гомосексуального статуса как такового является низкая генетическая продуктивность подобной особи, ведь люди нетрадиционной ориентации женятся гораздо реже и имеют гораздо меньше детей, чем их однозначно гетеросексуальные коллеги. Простейшим способом эволюционного сохранения генов, вызывающих такое состояние, может быть их преимущество в гетерозиготном положении: гетерозиготы лучше доживают до зрелости и/или производят больше потомков. Интересная альтернативная гипотеза была предложена Германом Т. Спитом (Herman T. Spieth, личное сообщение). Гомосексуальные члены примитивных обществ могли выступать помощниками в компании с другими мужчинами на охоте, либо участвовать в домашних делах в жилищах. Будучи свободны от выполнения родительских обязанностей, они могли быть особенно полезны в помощи близким родственникам. Гены предрасположенности к гомосексуализму могли, таким образом, равновесно поддерживаться на достаточно высоком уровне за счёт одного лишь родственного отбора. Остается сказать, что если такие гены действительно существуют, они почти наверняка обладают неполной пенетрантностью (проявляются не у всех их носителей – прим. перев. М.П.) и изменчивы по экспрессивности (проявляются в разной степени – прим. перев. М.П.), что означает, что проявят ли и в какой степени проявят носители генов соответствующие поведенческие особенности зависит от присутствия или отсутствия генов-модификаторов и воздействия окружающей среды. Недавний анализ этнографических данных (Weinrich, 1976) показал, что гомосексуалисты в современных сообществах охотников и собирателей действительно благотворно влияют на родственников, зачастую выступая в роли шаманов и бердачей (“мужеженщин” – людей с недифференцированным или противоположным биологическому гендерным статусом – прим. перев. А.П.).
|
|
|
Возможно, существуют и другие основные типы, и весьма вероятно, что ключ к разгадке будет найден только при полном изучении вопроса. В своем исследовании, проведенном в детских учреждениях Британии, Блартон Джонс (Blurton Jones, 1969) выделил у детей две основные модели поведения, в соответствии с которыми их можно разделить на “тех, кто говорит” и на “тех, кто делает” (или “вербалистов” и “мастеров” в соответствии с психологической терминологией – прим. перев. С.Р.). Первые, составлявшие меньшинство, часто пребывали в одиночестве, редко передвигались с места на место, и почти никогда не участвовали в шумных забавах. Они были словоохотливыми рассказчиками и проводили много времени за чтением книг. Вторые объединялись в группы, много двигались и предпочитали больше рисовать и мастерить, чем тратить время на разговоры. Блартон Джонс предположил, что эта дихотомия является следствием ранней дивергенции в развитии поведения, сохраняющейся потом у человека и в зрелые годы. В общем случае это может основополагающим образом влиять на многообразие внутри культур. Пока неизвестно, предопределено ли это расхождение путей развития только генетически, или оно полностью обусловлено эмпирическим опытом раннего детства.
|
|
|
Общение
Все уникальное социальное поведение человека основывается на его способности пользоваться речью, которая, в свою очередь, тоже уникальна. В любом языке слова, которым присвоены произвольные определения в рамках культур, выстроены в соответствии с грамматикой, которая придает им новые оттенки значений за пределами основного смысла. Полная символичность слов и изощренность грамматик позволяет создавать, в принципе, неограниченное множество сообщений. Можно даже общаться на тему самой системы общения! В этом – сущность человеческого языка. Базовые атрибуты общения могут быть разрушены, и другие особенности передачи информации могут быть добавлены, а в итоге формируются 16 основополагающих признаков (C. F. Hockett, см. в обзоре: Thorpe, 1972a). Большинство этих признаков найдено, как минимум, в рудиментарной форме и у других видов животных. Но продуктивности и богатства человеческого языка не может достичь никто, даже шимпанзе, обученные использованию знаков в простых предложениях. Развитие человеческой речи представляет собой эволюционный “квантовый скачок”, сравнимый с объединением эукариотических клеток в многоклеточные организмы.
Человек способен к богатейшему общению даже без слов. Изучение невербальной коммуникации ныне – процветающая ветвь социальных наук. Её кодификация затруднена тем, что очень многие сигналы играют вспомогательную роль и в вербальном общении. Категории этих сигналов зачастую определены противоречиво, и классификации редко согласуются (см., напр., Rensky, 1966; Crystal, 1969; Lyons, 1972). В таблице 26-2 представлена суммарная схема, свободная, как мне кажется, от внутренних противоречий и согласующаяся с текущим использованием. Число неголосовых сигналов, включая выражения лица, положения тела, его движения и прикосновения, вероятно, несколько превышает цифру 100. Брэнниган и Хамфрис (Brannigan and Humphries, 1972) составили список из 136 таких сигналов, который, как они считают, вполне исчерпывающ. Это число согласуется с полностью независимой оценкой Бердвистла (Birdwhistle, 1970), который полагает, что хотя лицо человека способно отобразить 250 тысяч выражений, однако число уникальных осмысленных значений из них не более 100. Вокальный параязык, насколько его можно отделить от ритмико-интонационных модификаций настоящей речи, не был каталогизирован так же досконально. Грант (Grant, 1969) распознал 6 уникальных звуков, но нередко это число подвергается сомнению зоологами, привыкшими препарировать этограммы других видов приматов. Короче говоря, всех паралингвистических сигналов, вместе взятых, почти наверняка больше 150, и, может быть, около 200. Этот запас больше, чем у основной массы других млекопитающих и птиц раза в три или больше, и несколько превосходит репертуар макак-резусов и шимпанзе.
Таблица 26-2. Способы общения людей.
| I. Вербальная коммуникация (язык): произнесение слов и предложений II. Невербальная коммуникация А. Интонации: тон, темп, ритм, громкость, интервал и другие характеристики голоса, модифицирующие значение произнесённых слов Б. Пара-язык: сигналы, отличные от слов, используемые для дополнения или модификации речи 1. Вокальный параязык: мычание, хихиканье, смех, крики и другие невербальные звуки 2. Невокальный параязык: положение тела, движение и прикосновения (кинестическая коммуникация); возможно также химическая коммуникация |
Другое важное отличие в анализе человеческого параязыка может быть отмечено между прелингвистическими сигналами, определенными как эволюционные предтечи настоящего языка, и теми, что являются постлингвистическими. Постлингвистические сигналы, вероятнее всего, произошли как чисто вспомогательные для речи. Ван Хуфф (Van Hooff, 1972), к примеру, установил гомологичность улыбки и смеха в выражениях лица низших и высших обезьян Старого Света, таким образом, классифицировав эти поведенческие акты как наиболее древние и универсальные сигналы.
Как доказывал Марлер (Marler, 1965), человеческая речь, возможно, основывается на богатстве и разнообразии сигналов, которые вряд ли отличны от тех, что использовались макаками-резусами или шимпанзе, в противоположность более разрозненным сигналам, характеризующим репертуар низших приматов. Человеческие младенцы могут издавать широкий спектр вокализаций, похожий на звуки, издаваемые макаками, павианами, и шимпанзе. Но очень рано в ходе их развития такие звуки преобразуются в специфические звуки человеческой речи. Многочисленные взрывные, фрикативные, носовые, гласные и другие звуки комбинируются, чтобы породить 40 или около того, основных фонем. Рот человека и верхние дыхательные пути серьезно модифицированы, чтобы поддержать эти вокальные навыки (см. рис. 26-2). Решающие изменения ассоциированы с прямохождением человека, которое могло быть обеспечено начальным, но все еще не закончившимся импульсом в направлении нынешней модификации. На лице, обращенном полностью вперед, рот образует с верхней гортанью угол 90 градусов. Такая конфигурация помогает поднимать заднюю часть языка, пока не получится единый тракт с частью передней стенки верхней гортани. Одновременно область гортани и надгортанник намного удлиняются.
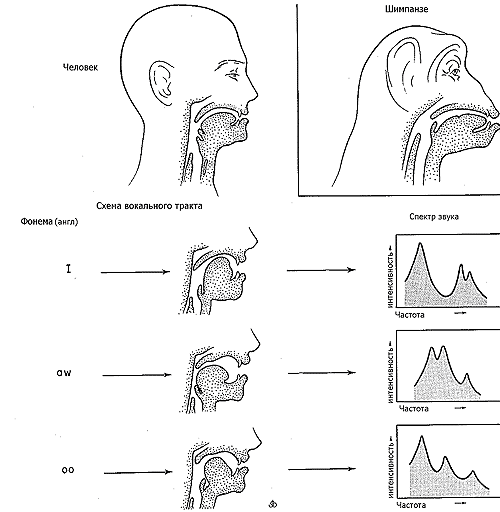
|
| Рисунок 26-2. Голосовой аппарат человека модифицировался в ходе развития так, чтобы значительно расширить множество издаваемых звуков. Подвижность была существенным аккомпанементом в развитии речи человека. Верхняя диаграмма показывает отличия вокального аппарата человека от шимпанзе и других приматов. Угол между ртом и верхним дыхательным трактом увеличен, область гортани удлинена, а задняя половина языка приобрела форму передней стенки длинного тракта над голосовыми связками. Нижняя диаграмма иллюстрирует, как перемещения языка изменяет резонирующие объемы и порождает различные звуки (приводится с изменениями по: Howells, 1973; Denes and Pinson, 1973). |
Два принципиальных измерения – переменчивость положения языка, и удлинение гортани ответственны за многообразие издаваемых звуков. Когда воздух с силой проходит вверх сквозь голосовые связки, он производит жужжащий шум, который может быть сильнее или продолжительнее, но не может претерпеть все важные модификации тона, чтобы произвести дифференциацию фонем. Последние эффекты достигаются при прохождении воздуха через гортанные и ротовые полости, и через ротовую щель. Эти структуры совместно формируют духовую трубу, которая, как и любой цилиндр, служит резонатором. Когда его расположение или очертания меняются, труба акцентирует различные комбинации частот, производимых голосовыми связками (голосовые связки, будучи колебательной системой с низкой добротностью, генерируют звук с широким спектром гармоник, т.е. частот, сопутствующих основному тону; именно эти гармоники и выделяют описанные резонаторы. Если бы голосовые связки порождали чистый тон, резонаторы любого типа влияли бы лишь на громкость – прим. перев. А.П.). В итоге, как показано на рис 26-2, мы различаем звуки как фонемы (см. также: Lenneberg, 1967; Denes and Pinson, 1973).
Однако наиболее ценное свойство дара речи – это не столько способность производить много звуков. В конце концов, теоретически возможно, что очень умное существо, произносящее единственное слово, будет способно к интенсивному общению. Необходимо лишь быть запрограммированным, как цифровой компьютер. Оно могло бы быть дополнено вариациями громкости, длительности, и периода следования, и тем еще более увеличить информативность коммуникации. В самом деле, единственное химическое вещество, в случае модулирования в идеальных условиях может производить до 10 000 бит в секунду, что далеко превосходит информативность человеческой речи. Зато человеческая речь сильна своим синтаксисом, зависимостью значений от порядка следования слов. Каждый язык обладает грамматикой, набором правил, управляющих синтаксисом. Чтобы верно понять природу и происхождение грамматики, нужно узнать почти все о конструкции человеческого рассудка. Можно отметить три конкурирующие модели, пытающиеся описать известные правила:
Первая гипотеза: вероятностная модель “слева–направо”. Излюбленное объяснение крайних психологов-бихевористов в том, что встречаемость слова подчиняется марковскому распределению, т.е. его вероятность зависит от непосредственно предшествующих слов или групп слов. Развивающийся ребенок усваивает эти слова во взаимосвязи с каждой подобающей обстановкой.
Вторая гипотеза: модель усвоенной глубокой структуры. Имеется ограниченный набор формальных принципов, в соответствии с которым слова комбинируются и составляются во фразы, порождая различные значения. Ребёнок в той или иной степени неосознанно изучает глубокую структуру его собственной культуры. Хотя число этих принципов ограничено, количество предложений, которые могут порождаться в соответствии с ними, неограниченно. Животные не могут говорить просто потому, что у них нет необходимого уровня познавательных или мыслительных способностей, но не потому, что у них нет какой-то специфической “способности к речи”.
Третья гипотеза: модель врожденной глубокой структуры. Некие формальные принципы существуют, как и во второй гипотезе, но они частично или полностью наследственные. Другими словами, по меньшей мере, некоторые из принципов инвариантно появляются в ходе созревания. Естественное следствие из этого предположения в том, что большая часть глубокой структуры грамматики общераспространенна, если не универсальна, во всём человечестве, хотя существуют глубокие различия во внешней структуре и значении слов между языками. Второй естественный вывод в том, что животные не могут говорить потому, что у них нет этой врождённой способности к речи, которая является качественно уникальной особенностью человека, но не является результатом количественного превосходства в интеллекте. Гипотеза врожденной глубокой структуры ярко ассоциируется с именем Ноэма Хомски (Noam Chomsky), и кажется сейчас в фаворе у большинства психолингвистов.
Вероятностная модель “слева–направо” сейчас отвергнута, по крайней мере – в её экстремальной версии. Количество переходных вероятностей, которые ребёнок должен изучить, чтобы вычислить такой язык как английский – практически беспредельно, и у него просто не хватит времени, чтобы в течение детства освоить все их (Miller, Galanter, and Pribram, 1960). На практике грамматические правила осваиваются очень быстро и в предикативных предложениях, ребенок проходит конструкции языка, предвосхищающие взрослые формы, одновременно различая важность их (Brown, 1973). Такой ход онтогенеза типичен для созревания врожденных компонент поведения животных. Тем не менее, это сходство не может приниматься как решающее свидетельство в пользу генетической программы, общей для человечества.
Окончательного решения этой проблемы, как настаивает Роджер Браун (Roger Brown) и другие представители психолингвистики развития, невозможно достичь, пока глубокая грамматика не будет надежно охарактеризована. Это сравнительно новая область исследования, начавшаяся с книги Хомски “ Синтаксические структуры ” (Syntactic Structures, Chomsky, 1957). С самого начала она отмечена высокосложной и быстроменяющейся аргументацией. Основные идеи были представлены в обзорах (Slobin, 1971; Chomsky, 1972). Здесь достаточно будет охарактеризовать главные процессы, распознанные в новом лингвистическом анализе. Грамматика структуры фраз, которая послужила примером в рис 26-3, содержит иерархию правил, по которым строятся предложения. “Фразы” (“выражения”), могут рассматриваться как модули, которые заменяют другие, эквивалентные, модули или добавляются de novo в предложение, чтобы изменить значения (обращаю внимание, что здесь и чуть далее “фраза” понимается не как синоним грамматического предложения, а более узко и строго – как некая единица речи – прим. перев. А.П.). Эти элементы нельзя разорвать, и части нельзя, без серьезных затруднений, менять местами. В примере “Мальчик ударил по мячу” “по мячу” интуитивно понимается как некая единица, которая легко может быть удалена или заменена другим выражением, к примеру, “по волану”, или просто “по нему”. Комбинация “ударил по” – уже не такая единица. Несмотря на тот факт, что эти два слова сопоставлены, их нельзя легко заменить без затруднений в конструировании остальной части предложения. Соблюдая правила, которые мы все подсознательно знаем, мы можем расширить предложение вставкой соответственно выбранных фраз: “ Заняв свою позицию, маленький мальчик дважды замахнулся и, наконец, ударил по мячу и побежал к первой базе ” (похоже, речь о бейсболе – прим. перев. М.П.).
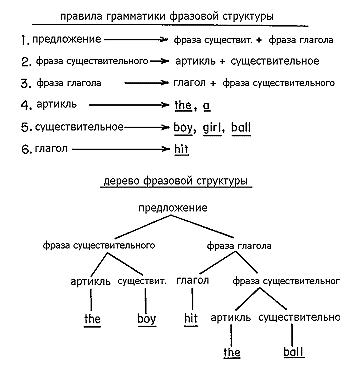
|
| Рисунок 26-3. Пример структуры правил грамматики в английском языке. Простое предложение “Мальчик ударил по мячу” (“The boy hit the ball”) показано как содержащее иерархию фраз. Каждый уровень одной фразы можно заменить другой эквивалентной композицией, но фразы нельзя расщеплять и менять местами их элементы (на основе: Slobin, 1971). |
Короче говоря, грамматика фразовой структуры предписывает способы формирования фраз. Они производят то, что называется глубокой структурой групп слов, в противоположность наружной структуре, или не более чем порядок, в котором появляются отдельные слова. Но направление последовательности, в которой фразы и терминальные слова появляются имеет решающее значение для смысла предложения. Предложение “Мальчик ударил по мячу” очень отличается от “По чему ударил мальчик?”, несмотря даже на то, что глубокая (фразовая) структура этих предложений подобна. Правила, в соответствии с которыми глубокая структура преобразуется в наружную структуру посредством сборки фраз, называется “ преобразовательной грамматикой ”. Преобразование – это операция конвертирования одной фразовой структуры в другую. Среди основных операций – замены (“по чему” заменяется на “по мячу”), перестановки (“по чему” ставится перед глаголом), и перемещения (изменение расположения связанных слов).
Психолингвисты описали как фразовую структуру, так и преобразовательную грамматику английского языка. Однако их аргументация не выглядят достаточной, чтобы выбрать между гипотезами номер два и три; другими словами – чтобы решить, являются ли грамматики унаследованными программами, или им обучаются. Базовые операции преобразования существуют во всех известных человеческих языках. Однако это наблюдение само по себе не позволяет утверждать, что конкретные правила преобразований одинаковы.
Существует ли универсальная грамматика? На этот вопрос ответить трудно в силу того, что большинство попыток обобщить правила глубокой грамматики базировались на семантическом содержании некоего отдельно взятого языка. Изучающие этот предмет редко стоят перед проблемой как истинно научной, хотя лишь этот путь мог бы быть привести к успеху. В самом деле, ученых-естественников разочаровывают расплывчатость и косвенность, которыми грешит большая часть психолингвистической литературы, которая выглядит зачастую легкомысленной и не заботящейся о классических канонах подведения доказательной базы под свои утверждения. Причина в том, что многие авторы, включая Хомски, – структуралисты в духе Леви-Страусса и Пиаже. Они подходят к проблеме с четким воззрением на человеческий разум (практически – мировоззрением), что он (разум) тоже структурирован, и тоже дискретен, неисчислим, эволюционно уникален, и, следовательно, нет большой нужды описывать его в формулировках других научных дисциплин. Анализ этот не теоретический, в смысле, что его нельзя вывести из проверяемых опытом постулатов, и расширить эмпирически. Некоторые психологи, включая Роджера Брауна с коллегами, а также Фодора и Гарретта (Fodor and Garrett, 1966), выдвигали и исследовали с переменным успехом поддающиеся проверке предположения, но следить за спекуляциями о глубокой грамматике было нелегко даже для этих искушенных экспериментаторов.
Подобно поэтам-натуралистам, структуралисты воспевают идиосинкразическое уникальное персональное видение. Их аргументация исходит из скрытых допущений, они весьма полагаются на метафоры и поясняющие примеры, уделяя мало внимания методу множественных конкурирующих гипотез. Несомненно, что эта дисциплина, одна из наиболее важных среди всех наук, созрела для применения строгих теорий и должной связи с экспериментальными исследованиями.
Фокус в том, что новая лингвистика может никогда не ответить на вопрос о том, когда у человека появилась речь. Появилась ли она с первым использованным каменным рубилом и постройкой жилищ австралопитеками более 2 миллионов лет назад? Или она ждала появления полностью современного Homo sapiens, или, может, даже развития религиозных обрядов в последние 100 тысяч лет? Либерман (Lieberman, 1968) полагает, что этот момент был относительно недавно. Он изучил реконструкции Макапанских австралопитеков, сделанные Дартом, и нашел, что форма их нёба и гортани очень близка к шимпанзе. Если он прав, то это значит, что ранние гоминиды не были способны артикулировать звуки человеческой речи. Такие же выводы можно сделать из изучения анатомии и вокальных способностей неандертальского человека (Lieberman et al., 1972), и если это верно, то точка возникновения человеческой речи находится на позднейших этапах видообразования в роде Homo. Другой теоретический аспект эволюционного происхождения человеческой речи был обсужден Джейн Хилл (Jane Hill, 1972) и Мэттингли (I. G. Mattingly, 1972). Леннеберг (Lenneberg, 1971) выдвинул гипотезу, что способность к математическим рассуждениям возникла как незначительная модификация лингвистических способностей.
|
|
|


