 |
Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности
|
|
|
|
ВЕКА
МОСКВА 1995
МОСКВА 1995
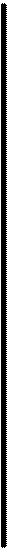 Ю. С. Степанов
Ю. С. Степанов
Изменчивый "образ языка" в науке XX века
Как показывает уже сам заголовок, речь пойдет об эволюции взглядов на язык на протяжении XX века и, самое главное, о тех новых чертах, которые "образ языка" приобрел к концу нашего, столетия. Выражение "в науке" следует понимать, скорее, собирательно: речь идет о разных науках или, во всяком случае, о разных "дисциплинах". Мы хотим показать, что на протяжении XX века, первоначально главным образом в лоне лингвистики, сменяли друг друга разные определения языка и, соответственно, разные его "образы". Эту эволюцию можно поставить в связь — однако не слишком жесткую— со сменой "стилей научного мышления", или, как некоторые предпочитают выражаться, "парадигм". Однако эволюция протекала так, что каждое последующее определение не вытесняло предыдущего целиком, а включало в себя некоторые его черты. Определение (и образ), которым мы завершаем исторический обзор (это статья I)— "Язык как дом духа", хотя и окрашено несколько в тона экзистенциальной философии и герменевтики XX века (прототип этого выражения принадлежит М. Хайдеггеру), — все же, если разобраться в нем с точки зрения истории науки, включает в себя и "язык индивида", и "язык народа" как некую константу национальной культуры, и многое другое, вследствие чего только и может быть полностью понято "дом духа".
Но если язык — это "дом духа", то естественно, что в нем протекает и "жизнь духа". И если не отделять (а предпринимались и такие, неправомерные, попытки) мышление и логику от

 других областей "духа", то надо признать, что язык — это и "дом логики", и "дом знания", и "дом философствования". В действительности,— хотя и под другими выражениями,— мы именно этот подход и наблюдаем в конце XX века, — в когнитологии (или в "когнитивной науке", cognitive science), во многих течениях современной логики, и в некоторых течениях современной философии, — например, русской ("Новый русский реализм") или французской. Естественно, что изложить связно все эти подходы в данной статье невозможно, да в этом и нет необходимости, — многим из этих вопросов посвящен ряд других статей нашей книги. В нашем очерке ход изложения здесь резко меняется — это статья II — мы сделаем как бы "вертикальное сечение" по трем линиям, соответствующие разделы мы — несколько условно — обозначим так: 1. "Дискурс", 2. Категория "Факт", 3. Концепт "Причина" и принцип причинности. В первом из этих разделов идет речь о дискурсе как о "языке в языке" — как о средстве выражения (и создания!) любого "возможного (альтернативного) мира". В третьем о новом аспекте в понимании каузальности именно в связи с языком. Поскольку к тому же при этом исследованным дискурсом выступает "советский политический дискурс" 1960-70-х гг., а каузальность— общий научный принцип, то ясно, что оба эти новые "образа языка" касаются (разумеется со скидкой на недочеты нашего освещения) и всего понимания языка и всех наук в наше время — конец XX века.
других областей "духа", то надо признать, что язык — это и "дом логики", и "дом знания", и "дом философствования". В действительности,— хотя и под другими выражениями,— мы именно этот подход и наблюдаем в конце XX века, — в когнитологии (или в "когнитивной науке", cognitive science), во многих течениях современной логики, и в некоторых течениях современной философии, — например, русской ("Новый русский реализм") или французской. Естественно, что изложить связно все эти подходы в данной статье невозможно, да в этом и нет необходимости, — многим из этих вопросов посвящен ряд других статей нашей книги. В нашем очерке ход изложения здесь резко меняется — это статья II — мы сделаем как бы "вертикальное сечение" по трем линиям, соответствующие разделы мы — несколько условно — обозначим так: 1. "Дискурс", 2. Категория "Факт", 3. Концепт "Причина" и принцип причинности. В первом из этих разделов идет речь о дискурсе как о "языке в языке" — как о средстве выражения (и создания!) любого "возможного (альтернативного) мира". В третьем о новом аспекте в понимании каузальности именно в связи с языком. Поскольку к тому же при этом исследованным дискурсом выступает "советский политический дискурс" 1960-70-х гг., а каузальность— общий научный принцип, то ясно, что оба эти новые "образа языка" касаются (разумеется со скидкой на недочеты нашего освещения) и всего понимания языка и всех наук в наше время — конец XX века.
|
|
|
Разные "образы языка" в XX веке
"Язык как язык индивида" (1),
"Язык как член семьи языков" (2),
"Язык как структура" (3), Язык как система" (4),
"Язык как тип и характер" (5),
Компьютерная революция и компьютерный подход к языку (6), "Язык как пространство мысли и как дом духа" (7)
Нельзя сказать, что к концу XX в., в результате споров, контроверз и дискуссий, не сложилось некоторого достаточно
|
|
|
единого представления о языке. Напротив, оно создалось и оно широко — если не обще- — признано. Отечественный "Лингвистический энциклопедический словарь" [ЛЭС 1990, 604], словами автора статьи "Язык" А. Е. Кибрика, резюмирует его следующим образом:
«Термин "Язык" имеет по крайней мере два взаимосвязанных значения: 1) Язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 2) конкретный, так называемый этнический, или "идиоэтнический", язык — некоторая реально существующая знаковая система, используемая в некотором социуме, в некоторое время и в некотором пространстве. Язык в первом значении — это абстрактное представление о едином человеческом языке, средоточии универсальных свойств всех конкретных языков. Конкретные языки — это многочисленные реализации свойств Языка вообще.» Дальше указывается, что "язык вообще" есть естественно возникшая семиотическая (знаковая) система, "обладающая свойством социальной предназначенности", т. е. "существующая прежде всего не для отдельного индивида, а для определенного социума. Кроме того, на эту знаковую систему наложены ограничения, связанные с ее функциями и используемым субстанциальным (звуковым) материалом".
Ниже (в статье II, 1, в связи с дискурсом) мы увидим особенности самого этого определения, но пока необходимо лишь сказать, что оно является достаточно общим и тем самым достаточно приемлемым, во всяком случае, может служить общим фоном, на котором можно обрисовать различные "образы языка", возникавшие и частично— но лишь частично!— сменявшие друг друга на протяжении XX века.
1. "Язык как язык индивида"
В известной мере такое понимание, в соответствии с которым единственной подлинной реальностью является лишь язык индивида, а общий язык — абстракция и даже фикция, оказывается отрицанием только что приведенного определения. Но дело в том, что оно возникло гораздо раньше последнего. Собственно

 говоря, наука, по крайней мере европейская (ибо мы оставляем пока в стороне более ранние работы американца Ч. С. Пирса, опередившие свое время), вступила в XX век с этим тезисом на своем знамени. И тогда он вполне соответствовал общим взглядам позитивизма.
говоря, наука, по крайней мере европейская (ибо мы оставляем пока в стороне более ранние работы американца Ч. С. Пирса, опередившие свое время), вступила в XX век с этим тезисом на своем знамени. И тогда он вполне соответствовал общим взглядам позитивизма.
|
|
|
Этим выражением, вынесенным в заголовок, мы хотим не столько отделить "логику науки" от ее "истории", сколько обозначить действительно имевшее место историческое событие — в самом деле это, понимание языка было сформулировано в 1880 г. в первом издании книги Германа Пауля "Принципы истории языка" ("Pinzipien der Sprachgeschichte") и, по-видимому, принималось многими, в общем, до начала 1920-х гг. (ибо в 1920 г. было подготовлено последнее, пятое, авторское издание этой книги).
"Великий переворот, произошедший в зоологии в новейшее время, — писал Г. Пауль, — в значительной мере обязан своим происхождением тому открытию, что реальным существованием обладают только индивиды, что виды, семейства и классы являются на деле лишь обобщениями и разграничениями, произвольно и по-разному устанавливаемыми человеческим умом, что видовые и индивидуальные различия отличаются друг от друга только по степени, а не принципиально. Из этого положения мы должны исходить также при рассмотрении диалектных различий. Мы должны признать, собственно говоря, что на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов. Когда мы объединяем языки множества индивидов в одну группу и противопоставляем ей языки других индивидов той же группы, то при этом мы всегда отвлекаемся от одних различий и принимаем в расчет другие. Здесь есть где разгуляться произволу. Нельзя заранее предполагать, что индивидуальные языки можно обязательно подвести лишь под одну систему классов. Нужно быть готовым к тому, что сколько бы ни было установлено групп, всегда найдется какое-то число индивидов, относительно которых трудно будет решить, в какую из двух смежных групп их надо зачислить. С особенной остротой та же дилемма встает при попытке объединения меньших групп в большие и их взаимного размежевания. Резкое разграничение можно провести лишь в случаях, когда единство общения прерывается на ряд поколений.
Поэтому, когда говорят о расщеплении ранее единого языка на разные диалекты, то подлинная суть процесса выражается этими словами из рук вон плохо. В действительности в каждый данный момент в данной народной общности насчитывается столько диалектов, сколько говорящих индивидов, причем каждый из этих диалектов обладает собственным историческим развитием и подвергается непрерывным изменениям. Расщепление на диалекты означает не что иное, как перерастание индивидуальных различий за определенные рамки" [Пауль 1960, 58-59].
|
|
|
Приведенное определение дает очень яркий (но, конечно, совершенно неприемлемый в настоящее время) "образ языка". Однако для нашей темы оно особенно удачно потому, что в нем непосредственно-наглядно видно, как новое понимание языка, о котором пойдет речь в следующем разделе, — языка как "члена родственной семьи языков" прямо, как бы буквально, вырастает из данного.
2. "Язык как член семьи языков"
Под семьей языков, в соответствии со всей теорией сравнительно-исторического языкознания, понимается группа языков, развившихся из некоторого языка-основы, или праязыка, таким образом, что исконные минимальные значимые элементы этих языков (корни и аффиксы) находятся в строго определенных и регулярных звуковых соответствиях к соответствующим элементам праязыка (в определенных отношениях, но уже иного рода — трансформационных, находятся и их основные синтаксические единицы).
(Для строгости метода необходимо подчеркнуть одно важное обстоятельство: "Сравнительно-исторический метод,— писал А. Мейе в 1925 г., — позволяет устанавливать закономерные соответствия между первоначальным языком и отдельными, развившимися из него языками, но не между различными языками, продолжающими общий язык" [Мейе 1954, 32]. Между тем иногда полагают, что родство языков предполагает прямые за-
13'

 кономерные соответствия между всеми языками одной семьи в их синхронном существовании, т. е. как бы минуя восхождение к праязыку. Так, т. е. неточно, формируется понятие "Родство языковое" в указанном "Лингвистическом энциклопедическом словаре" [1990, 418]. И с этим же обстоятельством связаны многие трудности в формулировке закономерных соответствий так называемых "ностратических языков".)
кономерные соответствия между всеми языками одной семьи в их синхронном существовании, т. е. как бы минуя восхождение к праязыку. Так, т. е. неточно, формируется понятие "Родство языковое" в указанном "Лингвистическом энциклопедическом словаре" [1990, 418]. И с этим же обстоятельством связаны многие трудности в формулировке закономерных соответствий так называемых "ностратических языков".)
В соответствии с этим взглядом, каждый язык есть прежде всего член языковой семьи, связанной регулярными историческими соотношениями звуков (и минимальных значимых элементов); этим задается — одновременно извне и изнутри — его системность.
Это понятие системности было уже чревато всеми основными положениями структурализма. В самом деле, что такое, согласно этому пониманию, "регулярные звуковые соответствия"? Уже в 1925 году (году создания известной обобщающей работы А. Мейе "Сравнительный метод в историческом языкознании") они понимались как алгебраические выражения условных (но регулярных) формул соответствий. Что это как не обобщение (в то время еще не осознанное как таковое) идеи "сонантических коэффициентов" одного из основоположников структурализма Ф. де Соссюра, высказанной им еще в знаменитом "Мемуаре" 1878 г.? Не случайно, именно А. Мейе сформулировал главную идею "Курса общей лингвистики" Ф. де Соссюра (в своей рецензии на него) не сформулированную его автором: "Язык — это система, где все держится одно за другое" ("La langue est un syste-me ou tout se tient").
|
|
|
3. "Язык как структура"
Возможность обобщения, доходящего до создания абстрактной идеализированной модели Языка (возможность, не использованную де Соссюром), очень хорошо осознали и четко сформулировали его наиболее верные последователи на этом пути — датские структуралисты. В. Брёндаль, имея в виду этнические обычаи, но то же самое в его концепции относится и к язы-
ку, писал: "Совокупность обычаев какого-либо народа всегда отмечена особым стилем. Обычаи образуют системы. Я убежден, что эти системы не существуют в неограниченном количестве и что человеческие общества, подобно отдельным людям, никогда не создают чего-либо абсолютно нового, но лишь составляют некоторые комбинации из идеального набора возможностей, который можно исчислить (разрядка наша — Ю. С)" [Brоndal 1943, 96]. Из концепции Брёндаля вытекало, что идеальный набор возможностей" и есть то, что составляет Язык человека вообще — единый для всех людей Земли, абстрактный, универсальный и вечный.
В современной лингвистике (если, идеализируя, считать, что она представляет собой некое достаточно единое целое, начинающееся на рубеже 40-50-х годов нашего столетия, а в отдельных пунктах и значительно раньше) понятие закона вырабатывалось "на том комплексе идей, которые были получены в достояние от предшествующего этапа.
Прежде всего получила дальнейшее развитие идея нежесткой детерминированности, статистического характера языкового развития. А. Мейе был тем, кто уже в 1925 г. наиболее четко оформил эту мысль: "Формулы общей эволюционной фонетики означают возможность, но не необходимость. Можно определить, каким образом должен измениться согласный, оказавшись между гласными, но из этого еще не следует, что он изменится. Очутившись между гласными, -к- может измениться либо в гортанный спирант -х- (нем. ch), либо в звонкий взрывной -g-; -х- и -g- могут претерпеть в дальнейшем другие изменения, обусловленные их интервокальным положением1' [Мейе 1954, 78]. В этом простом и ясном тезисе слился, однако, целый комплекс предшествующих идей. Во-первых, мы можем отчетливо различить здесь ту же идею, что и у Брёндаля: общее устройство Языка не предсказывает в положительном смысле, как именно должен измениться элемент, и изменится ли он вообще, но совершенно определенно предсказывает, как он не может измениться; вовсе не любое изменение может произойти так же легко, как любое другое. Во-вторых, для изменения в предоставленных Языком возможностях необходимо еще нечто — некий внешний толчок, об-

 условленный в конечном счете социальным функционированием языка в конкретно-исторической обстановке (положение, которое отличает социальную концепцию А. Мейе и всей новейшей лингвистики от датского структурализма). В-третьих, возможные изменения, если рассматривать их уже в положительном смысле, т. е. исключив заведомо невозможное, представляют собой некоторый пучок, или "разброс", возможностей, подчиняющийся статистическим закономерностям. Эта идея, как мы отмечали выше, предугадывалась уже Паулем. Однако наиболее полно она была разработана не Паулем, и даже не Мейе, а И. А. Бодуэном де Куртенэ. Он писал в 1910 г.: "Все множество представлений вообще, и производительных и слуховых в частности, связанных и ассоциированных между собой, все множество рецептивных и исполнительных навыков передается путем языкового общения от одного человека к другому, от одного поколения к другому, от одной этнической группы к другой. В процессе этой передачи, несмотря на все колебания и отклонения мы можем констатировать удивительную однородность и регулярность фактов, постоянные совпадения и причинную связь между определенными языковыми явлениями" [Бодуэн 1963, 201]. И далее: "Однородность и регулярность, проявляющуюся в узкой сфере индивидуальной церебрации (мозговых процессов — Ю. С.) и в языковом общении, следует рассматривать не как зависимость, охватываемую точной формулой "фонетического закона", а лишь как статистическую констатацию факта совпадения в некоторых условиях, существующих в части социально-языкового общения".
условленный в конечном счете социальным функционированием языка в конкретно-исторической обстановке (положение, которое отличает социальную концепцию А. Мейе и всей новейшей лингвистики от датского структурализма). В-третьих, возможные изменения, если рассматривать их уже в положительном смысле, т. е. исключив заведомо невозможное, представляют собой некоторый пучок, или "разброс", возможностей, подчиняющийся статистическим закономерностям. Эта идея, как мы отмечали выше, предугадывалась уже Паулем. Однако наиболее полно она была разработана не Паулем, и даже не Мейе, а И. А. Бодуэном де Куртенэ. Он писал в 1910 г.: "Все множество представлений вообще, и производительных и слуховых в частности, связанных и ассоциированных между собой, все множество рецептивных и исполнительных навыков передается путем языкового общения от одного человека к другому, от одного поколения к другому, от одной этнической группы к другой. В процессе этой передачи, несмотря на все колебания и отклонения мы можем констатировать удивительную однородность и регулярность фактов, постоянные совпадения и причинную связь между определенными языковыми явлениями" [Бодуэн 1963, 201]. И далее: "Однородность и регулярность, проявляющуюся в узкой сфере индивидуальной церебрации (мозговых процессов — Ю. С.) и в языковом общении, следует рассматривать не как зависимость, охватываемую точной формулой "фонетического закона", а лишь как статистическую констатацию факта совпадения в некоторых условиях, существующих в части социально-языкового общения".
Таким образом, "образ языка", обрисованный в духе структурализма, приобретал следующие характерные черты:
— возможность алгебраизации;
— нежестко детерминированный, вероятностный, т. е. "по
тенциальный", характер;
— связь с конкретными социальными коллективами людей
в социуме;
— связь с "церебрацией", т. е., в современных терминах, с
нейро-физиологическими процессами.
Одновременно уточнялось и делалось строгим само понимание структуры. Пожалуй, наиболее последовательное (и тем самым, доведенное до предела) понимание структуры было выражено в "Пролегоменах к теории языка" Луи Ельмслева (оригинальный датский текст 1943 г. — "Omkring sprogteoriens grundlaeg-gelse", английский перевод 1953 г. "Prolegomena to a theory of language"; ниже цитируем русский перевод Ю. К. Лекомцева [Ельмс-лев 1960, 270]:
"A priori во всех случаях справедливым кажется тезис о том, что для каждого процесса (в том числе и исторического) можно найти соответствующую систему, на основе которой процесс может быть проанализирован и описан посредством ограниченного числа предпосылок. Следует предположить, что любой процесс может быть разложен на ограниченное число элементов, которые постоянно повторяются в различных комбинациях. Затем эти элементы могут быть объединены в классы по их комбинационным возможностям. И наконец, в дальнейшем, очевидно, можно построить всеобщее и исчерпывающее исчисление (calculus) возможных комбинаций. История, в частности, построенная таким образом, поднялась бы над уровнем чисто примитивного описания, став систематичной, точной и дедуктивной наукой, в теории которой все события (возможные комбинации элементов) предвидятся, а условия их осуществления устанавливаются заранее".
Внутри структуры языка в качестве основной ячейки выдвигалась элементарная языковая оппозиция — бинарная оппозиция.
4. "Язык как система"
"Язык как система" — это, по существу, тот же тезис "Язык как структура", но как бы с включенной в определение критикой и модификацией жестко структуралистского подхода. Под системой понимается единое целое, доминирующее над своими частями и состоящее из элементов и связывающих их отношений. Совокупность отношений между



 элементами системы образует ее структуру. Правомерно говорить поэтому о структуре системы. Совокупность структуры и элементов составляет систему.
элементами системы образует ее структуру. Правомерно говорить поэтому о структуре системы. Совокупность структуры и элементов составляет систему.
Ядро языковой системы образуют предельные единицы языка и связывающие их отношения. Под предельными единицами понимаются аллофоны, морфы, слова, словосочетания, предложения или, в абстрактном аспекте, фонемы, морфемы, слова, структурные схемы словосочетаний, структурные схемы предложений. Под отношениями между предельными единицами понимаются все типы парадигматических и синтагматических отношений.
К ядру языковой системы примыкают непредельные языковые единицы и связывающие их отношения: группофонемы, квазиморфы, аналитические формы слова, сложные предложения.
Ядро языковой системы в наиболее употребительных пластах лексики, в грамматике и в продуктивных пластах словообразования образует центр системы языка. Периферию системы языка образуют малоупотребительные пласты лексики, мертвые пласты словообразования и отмирающие грамматические категории. Грамматические категории, когда они отмирают, проходят снова стадию словообразовательных отношений и, наконец, перемещаются в лексику, становясь фактами словаря.
При определении того, что представляет собой языковая система, необходимо вкладывать четкий смысл в термин доминирует ("система доминирует над своими частями и элементами"). Система и структура определяют элемент как принадлежность данной системы и в этом смысле доминируют над ним. Поэтому при описании системы логическое определение отношений действительно предшествует логическому определению элементов. Однако система и структура не предопределяют происхождение элементов как отдельных объективных явлений действительности (например, материальных звукотипов, значений слов как отражения отдельных предметов объективной действительности) и в этом смысле не доминируют над элементами. Кроме того, даже и в случае доминации в системе языка важную роль играют нежестко детерминированные, вероятностные отноше-
ния — нежесткая доминация. Ее примером могут служить явления "континуума". В силу этого системная историческая реконструкция может восстановить прошлую систему языка, но нередко оказывается не в состоянии определить ни материальной формы, ни происхождения элементов. (Здесь по работе: [Степанов 1975, 228-229].) (См. также [Солнцев 1977].)
Структура языка тяготеет к большой общности (почему, скажем, одни и те же фонемные оппозиции могут наблюдаться в языках самых разных семей; аблаутные ряды в глаголе сходны в семитских и в индоевропейских языках; порядок слов — один и тот же в современных кельтских и иврите, и т. п.), в конечном счете, в изображении Л.Ельмслева — одна и та же для всех языков вообще. Система же языка, с другой стороны, т. е. материальная реализация структуры, всегда индивидуальна в каждом этническом языке, всегда "идиоэтнична". Таким образом в модификации тезиса "Язык есть структура" в виде "Язык есть структура и система" уже содержится в зародыше некий иной "образ языка" — как в чем-то "неповторимый" и "индивидуальный".
5. "Язык как тип и характер"
Интересно, что (как, впрочем, нередко бывает в истории) этот, приведенный в заголовке тезис, начал утверждаться одновременно со становлением структурализма, но сначала был лишь сопутствующим, более расплывчатым представлением. Лишь позднее он становится основой нового "образа языка".
По-видимому, первым, кто скомбинировал понятия "типа языка" и "характера языка" (с преимущественным вниманием ко второму), был В. Матезиус с его програмной статьей "О лингвистической характерологии" ("On linguistic characterology with illustrations from Modern English") 1928 r. [Mathesius 1966a]. С самого начала В. Матезиус постулирует— вполне справедливо— два основных положения новой дисциплины — "лингвистической (или: языковой) характерологии": 1)она должна начинаться с современного, непосредственно данного в наблюдении состояния языка, вне всяких исторических соображений, и вообще ее цель —

 синхронные связи в данном языке (хотя эта синхрония может браться в разные эпохи); 2) характерология должна выделять профилирующие и базовые черты данной языковой системы (в этом отличие характерологии от полной дескриптивной грамматики).
синхронные связи в данном языке (хотя эта синхрония может браться в разные эпохи); 2) характерология должна выделять профилирующие и базовые черты данной языковой системы (в этом отличие характерологии от полной дескриптивной грамматики).
Далее Матезиус переходит к характерологии современного английского языка и здесь делает подлинные (для того времени) открытия. Он подмечает, во-первых, особую черту английского: из возможных подлежащих высказывания по-английски предпочитают выбрать на роль подлежащего наиболее актуальный и действенный в данный момент субъект; поскольку таковым обычно оказывается сам говорящий, то типичным подлежащим в английской речи оказывается местоимение 1-го л. ед.ч. "I" — "Я". (В отличие от правил поведения в обществе, где, как говорит Матезиус, англичанин предпочитает не подчеркивать свое "Я".) Ма-тезиус сравнивает английское высказывание (1) с немецким (2):
(1) I haven't been allowed even to meet any of the company;
(2) Man gestattete mir nicht mit irgendjemandem der Gesellschaft
auch nur zusammenzukommen.
("Мне не позволили даже встретиться ни с кем из компании")
Поскольку — как это вытекает из самого определения характерологии — подмечаются взаимосвязи профилирующих черт языка, то в данном случае с отмеченной чертой оказывается связанной другая яркая особенность английской речи: в ней на протяжении длинных отрезков оказывается неизменным одно и то же подлежащее, — т. е. субъект (человек или предмет) наиболее актуальный в данной ситуации.
Пример Матезиуса (опять-таки в сравнении с немецким):
(3) You may take your oath there are a hundred thousand peo
ple in London that'll like it if they can only be got to know about it.
(4) Sie kgnnen Gift darauf nehmen, es gibt ein Hundert Tau-
send Leute in London, den es gefallen wird, wenn man sie nur dazu
bringen kann, es kennen zu lernen.
("Смело можете побиться об заклад, что в Лондоне найдется сто тысяч человек, которым это понравится, если только их об этом известят".)
Далее Матезиус подчеркивает известную черту английского — любовь к пассивным конструкциям.
Из комбинации отмеченных трех "характерологических черт" английского языка возникает, наконец, такое его общее свойство как ориентация всего рассказываемого, всей описываемой по-английски ситуации на центральный субъект— на "Я" говорящего (примеры 5 и 6):
(5) Upon examination of these I found a certain boldness
growing in me— "Взвесив эти обстоятельства, я почувствовал,
как во мне растет дерзкая решимость";
(6) Не found himself pushed... into Mrs. Douglas's drawing-
room — "Он вдруг увидел, что его заталкивают в гостиную мис
сис Дуглас".
(Эта же черта независимо от В. Матезиуса обнаружена в современном французском языке, например, в таких его специфических и вместе с тем типичных конструкциях, как Elle s'est fait faire la coiffure par un tres cher coiffeur — букв. "Она сделала сделать себе прическу очень дорогим парикмахером", или Elle s'en-tend dire par quelqu'un — букв. "Она слышит себя [слышащей], как ей кто-то говорит", — см. об этом в нашей "Французской стилистике" (1965 г.— § 93 "Субъектность или эгоцентризм французского кадра") [Степанов 1965]).
Эти характерологические черты английского (и французского) языка не остались просто тонким лингвистическим наблюдением. Именно их обобщение (без прямой связи с упомянутой работой В. Матезиуса и др. — речь идет о чертах языка, а не об их изложении в работах лингвистов) привело к открытию, по существу, новой логико-языковой категории — "Факт" и к новому взгляду, на этой основе, на принцип причинности (каузальности) (см. здесь статью И, 2).
В других отношениях работа В. Матезиуса также была продолжена. По линии "характерологии" языка взгляды В. Матезиуса (и ряда его современников) привели к созданию качествен-

 но новой типологии языков— к отказу от "таксономических схем" ("квантитативной типологии" и формально-синтаксических классификаций) и к выработке такого понятия о "языковом типе", когда последний рассматривается как самонастраивающаяся система, "оптимизирующаяся по конкретной детерминирую-щей тенденций —детерминанте" (тезис Г. П. Мельникова). Это достаточно единая типологическая линия— концепции Гумбольдта (с его понятием "дух языка")— Бодуэна де Куртенэ — Габеленца— Сепира (с понятием "главный чертеж" языка) — Скалички— Сгалла— Мельникова (с его понятием "детерминанты"). Одна из последних работ по этой линии — диссертация В. А. Родионова, выполненная под руководством акад. Б. А. Серебренникова, носит характерный заголовок "Проблема импли-кативной связи признаков при определении типа языка" [Родионов 1988]. "Импликативные связи признаков" в этом контексте, в характеристике языка, — это и было одним из главных положений В. Матезиуса. (К сожалению, сам В. Матезиус оказался в этой работе незамеченным.) Начало новому типологическому подходу в нашей стране было положено серией работ безвременно скончавшегося И. Ш. Козинского (1947 — 1992), к сожалению, все еще остающихся у нас мало известными; см. однако [Ко-зинский 1979]. Это направление близко к тому, которое в лингвистике США представлено в настоящее время именами М. С. Драйера (М. S. Dryer), Дж. Хокинса (J. С. Hawkins) и др.
но новой типологии языков— к отказу от "таксономических схем" ("квантитативной типологии" и формально-синтаксических классификаций) и к выработке такого понятия о "языковом типе", когда последний рассматривается как самонастраивающаяся система, "оптимизирующаяся по конкретной детерминирую-щей тенденций —детерминанте" (тезис Г. П. Мельникова). Это достаточно единая типологическая линия— концепции Гумбольдта (с его понятием "дух языка")— Бодуэна де Куртенэ — Габеленца— Сепира (с понятием "главный чертеж" языка) — Скалички— Сгалла— Мельникова (с его понятием "детерминанты"). Одна из последних работ по этой линии — диссертация В. А. Родионова, выполненная под руководством акад. Б. А. Серебренникова, носит характерный заголовок "Проблема импли-кативной связи признаков при определении типа языка" [Родионов 1988]. "Импликативные связи признаков" в этом контексте, в характеристике языка, — это и было одним из главных положений В. Матезиуса. (К сожалению, сам В. Матезиус оказался в этой работе незамеченным.) Начало новому типологическому подходу в нашей стране было положено серией работ безвременно скончавшегося И. Ш. Козинского (1947 — 1992), к сожалению, все еще остающихся у нас мало известными; см. однако [Ко-зинский 1979]. Это направление близко к тому, которое в лингвистике США представлено в настоящее время именами М. С. Драйера (М. S. Dryer), Дж. Хокинса (J. С. Hawkins) и др.
По другой линии новое понимание языка было развито в тезисе о "потенциальности" языковой системы. В. Матезиусу принадлежит также другая важная работа, более ранняя (1911г.) — "О потенциальности явлений языка" [Mathesius 1966 b], в общем подходе к языку тесно связанная с уже упомянутой. Через несколько лет после названной статьи В. Матезиуса 1928 г., другой пражский лингвист, А. Артымович выступил со столь же программной статьей "О потенциальности языка" ("О potencialnosti v jazyce",— "Slovo a slovesnost" I, 1935; здесь цитируем по английскому переводу [ArtymoviC 1966].) Статья А. Артымовича была дальнейшим развитием тезиса И. А. Бодуэна де Куртенэ, приведенного нами выше (см. 3). Напротив, А. Артымович подчеркивал отличие своей концепции от концепции Ф. де Соссюра, типично "структуралистской". "Моя концепция,— писал Артымо-
вич, — станет более ясной, если мы сопоставим ее с системой де Соссюра. Поскольку язык принадлежит к семиологическим системам, де Соссюр рассматривает каждое слово как «семейон (знак), несущий некоторый смысл. Согласно его взгляду, фонема — если ее выделить, изолированно — лишена смысла и поэтому не принадлежит языку. Только слово может быть "семейо-ном", способным нести смысл. Но ведь фонемы—это элементы слов и поэтому не могут быть исключены из языка. Слово же, существующее до его "исполнения" (implementation) в речи, т. е. как чистая возможность, in potentia, принадлежит языку, в то время как произнесенные слова, слова после реализации, принадлежат речи. Положение фонемы аналогично. Разница лишь в том, что имеется единый термин, означающий слово и как часть языка и как часть "речи", между тем как в случае фонемы в нашем распоряжении два термина. Де Соссюр, разумеется, обошел исследование Бодуэна де Куртенэ и использовал этот термин как синонимичный термину "звук". Но следует употреблять более точную терминологию: фонемы — это элементы слов и, поскольку слово само принадлежит языку, фонемы вместе со словами также принадлежат языку как возможности и существуют in potentia. Исполненные фонемы (implemented phonemes) называются звуками и принадлежат к речи, точно так же, как осуществленные слова (realized words)» [Artymovic" 1966, 76-77].
Позднее— но при опоре на более ранние исследования Ч. Пирса, остававшиеся в Европе во время написания работы Артымовича, в общем, неизвестными — различие, обозначенное Артымовичем, было более точно формулировано как различие между "знаком" (a sign) и "экземпляром знака" (a token). В таком виде оно использовано в теории алгоритмов, в частности, в работах А. А. Маркова в России (см., например, [Марков 1951, 176-177]).
По другой линии (другому "параметру")— по вопросу о "видах существования", в частности о "существовании в потенции", которое было хорошо изучено еще логиками Средневековья,— новые исследования заставили себя ждать (отчасти по причине идеологических запретов, существовавших в России — СССР) (см., впрочем, о различении "субзистенции" — бытие вне времени и "экзистенции" — бытие в актуальном времени, — в кн.

 "Семиотика" 1983 г. (состав. Ю.С.Степанов) [Семиотика 1983,
"Семиотика" 1983 г. (состав. Ю.С.Степанов) [Семиотика 1983,
586]. И только в самое последнее время "виды существования"
стали заново философски исследоваться в течении "Нового рус
ского реализма". (Сам термин "реализм" означает здесь нечто,
восходящее к традиции средневекового "реализма" в его проти
вопоставлении "номинализму".)
, Таким образом; в этих — и многих других, неназванных — работах все было подготовлено появлению еще одного, тоже нового, понимания и 'образа" языка, — о котором пойдет речь в разделе 7. Но прежде — о компьютерной революции.
6. Компьютерная революция и компьтерный подход к языку
Мы собираемся провести здесь ту идею, что компьютерная революция, начальным этапом которой стали работы Н. Хомского 1960-х гг., не изменила взгляда на язык,— в отличие от того, что обычно предполагает сам Н. Хомский и его последователи, — но действительно изменила взгляд на лингвистическую теорию*.
Мы воспользуемся для этой цели главным образом работой Н. Хомского 1962 г. "Логический базис лингвистической теории" (The Logical Basis of Linguistic Theory" [Chomsky 1962]; рус. пер. [Хомский 1965]; ниже цитируются стр. этого перевода, за исключением тех случаев, когда мы, указывая это, даем свой перевод).
"Когда мы пользуемся языком как говорящие и как слушающие, — пишет Хомский, — мы в основном имеем дело с новыми предложениями; овладев языком мы можем свободно, без всяких затруднений и колебаний, оперировать столь обширным классом предложений, что для всех практических целей и, очевидно, для всех теоретических целей мы можем считать этот
 Этот вопрос под другим углом зрения обсуждается подробно в разделах Е. С. Кубряковой и П. Серио (в последнем — см. "Заключение").
Этот вопрос под другим углом зрения обсуждается подробно в разделах Е. С. Кубряковой и П. Серио (в последнем — см. "Заключение").
класс бесконечным. (Это положение о "бесконечности" этого класса в настоящее время следует считать неадекватным, — см. об этом ниже. — Ю. С.) Нормальное владение языком предполагает не только умение легко понимать бесконечное множество совершенно новых предложений, но также и умение опознавать неправильные предложения, а иногда — давать им интерпретацию.. Знание родного языка можно.... представить, как систему правил, которую мы можем назвать грамматикой языка.... В частности, для некоторых высказываний структурная характеристика сообщает, что они являются правильно построенными предложениями. Множество таких высказываний можно назвать "языком, порожденным грамматикой"....Итак, грамматика — это устройство, которое, в частности, задает бесконечное множество правильно построенных предложений и сопоставляет каждому из них одну или несколько структурных характеристик. Возможно, такое устройство следовало бы назвать порождающей грамматикой для отличия его от описательных утверждений, которыми определяется лишь инвентарь участвующих в структурных характеристиках элементов и их контекстных вариантов.... Порождающая грамматика, фактически усвоенная тем, кто изучил определенный язык, представляет собой некое устройство, которое, используя соссюровские термины, мы можем назвать языком-langue... " [Хомский 1965,465-467].
Конечно, эксплицитная формулировка правил того типа, о котором здесь идет речь, ставшая объектом порождающей грамматики США 1960-х гг. и ее многочисленных ответвлений и производных в наши дни, является огромным шагом вперед в одном из направлений лингвистической теории. Однако при таком взгляде упускается из виду, что прогресс осуществляется и в других направлениях лингвистической теории, не связанных с гене-ративизмом. Следует вспомнить, прежде всего, что во вполне традиционных грамматиках XIX в. существовало два раздела, один из которых, "этимология", (т. е. морфология в современном нам смысле слова) описывал строение форм как элементов языка, а другой, синтаксис, — правила использования этих форм в речи. И правила эти в лучших грамматиках формулировались настолько четко, что это позволяло даже учащемуся (например, изучающему латинский или греческий язык) отличать "правильно по-
 строенное предложение" от неправильного. Что, в общем, не так уж далеко от задач, которые ставит перед собой порождающая грамматика.
строенное предложение" от неправильного. Что, в общем, не так уж далеко от задач, которые ставит перед собой порождающая грамматика.
Но обратимся к современному примеру другого, нежели порождающая грамматика, лингвистического направления, — к "Русской грамматике" [Русская грамматика 1980], созданной обширным коллективом авторов под руководством Н. Ю. Шведовой в Москве и изданной в 2-х томах в 1980 г. Являясь "описательной грамматикой", однако современной, эта работа утверждает и осуществляет в практике описания нечто довольно отличное, если не прямо противоположное тому, что приписывает "описательным грамматикам" Н. Хомский. В § 1893 (на с. 85 2-го тома) "Русской грамматики" читаем: «Каждое предложение как грамматическая единица имеет предикативную основу, т. е. постр
|
|
|


