 |
«Языки» арктического пространства 8 страница
|
|
|
|
 Вятская ярмарка имела и свою мифологическую историю. Предание связывало установление праздника с памятью о воинах, погибших в битве между вятчанами и устюжанами. В этой битве «пало много устюжских воинов; будто бы устюжане пришли на помощь вятчанам, но вятские слепороды приняли их в темноте ночи за врагов и избили»38. В других вариантах вятского предания семицкие поминовения проходят «над костями убитых черемис», над «убитыми некогда в битве с вотяками», над могилами вятских воинов, «падших в сече с новгородскими выходцами». Столь сильный разброс версий предания об исторической битве (от устюжан и новгородцев до представителей иных этносов) заставляет усомниться в историчности описываемых преданием событий. Сомнение еще более усиливается при сопоставлении его с удмуртским преданием о битве между вотяками и черемисами, правда, прикрепленным к Великому четвергу: «У мултанских вотяков Малмыжско-го уезда отмечено еще следующее предание. В ночь на великий четверг у них некогда была битва с черемисами: в этой битве погибло много черемис. Души убитых приходят ежегодно в эту ночь к жилищам вотяков, с целью отомстить своим врагам... »39.
Вятская ярмарка имела и свою мифологическую историю. Предание связывало установление праздника с памятью о воинах, погибших в битве между вятчанами и устюжанами. В этой битве «пало много устюжских воинов; будто бы устюжане пришли на помощь вятчанам, но вятские слепороды приняли их в темноте ночи за врагов и избили»38. В других вариантах вятского предания семицкие поминовения проходят «над костями убитых черемис», над «убитыми некогда в битве с вотяками», над могилами вятских воинов, «падших в сече с новгородскими выходцами». Столь сильный разброс версий предания об исторической битве (от устюжан и новгородцев до представителей иных этносов) заставляет усомниться в историчности описываемых преданием событий. Сомнение еще более усиливается при сопоставлении его с удмуртским преданием о битве между вотяками и черемисами, правда, прикрепленным к Великому четвергу: «У мултанских вотяков Малмыжско-го уезда отмечено еще следующее предание. В ночь на великий четверг у них некогда была битва с черемисами: в этой битве погибло много черемис. Души убитых приходят ежегодно в эту ночь к жилищам вотяков, с целью отомстить своим врагам... »39.
Типологическое сходство приведенных преданий раскрывает квазиисторичность описываемых в них событий и выявляет их основную функцию, заключающуюся не в сохранении памяти об исторической битве, а в этиологическом объяснении праздника и входящих в него хтонических мотивов. Хтоническое восприятие ярмарки обусловило появление в ее репертуаре элементов «состязательности», «борьбы», «соперничества», которые проявлялись в кулачных боях, бросании друг в друга глиняными шарами, печеными яйцами и т. д.
|
|
|
Вятская ярмарка характеризовалась строго определенным ассортиментом товаров. На ней продавались сосновые пищали, берестяные и глиняные дудки, рожки, шары, свистульки, фигурки людей, то есть предметы, не имевшие практической (экономической) значимости и предназначенные исключительно для целей ритуала, для использования в разнообразных формах ярмарочного антиповедения. То есть ярмарка, как и любой другой праздник (ритуал), самодостаточна. Ритуалы не требуют для себя никакой другой реальности, поскольку реальность внешнего мира втягивается во внутренний мир ритуала и в нем преображается. О. М. Фрейденберг следующим образом определила эту замкнутость ритуала на самое себя: «... Историю страстей никто не рассказывает, но она дается воочию, без автора, без исполнителей; событие живописует само себя и никого другого не имеет в виду: первобытное сознание делает его безусловным и автономным, демонстрирующим себя самого. Я раньше формулировала эту мысль так: бог всегда погибает в своей собственной стихии и возрождается в ней»40.
Другими словами, на вятской ярмарке продавалось только то, что могло быть использовано в качестве обрядового реквизита ярморочного спектакля, сценарий которого воспроизводил мифологический сюжет прихода предков в мир людей. Знаками-символами этого прихода и являлись продаваемые на ярмарке товары (дудки, свистульки, фигурки людей).
Замкнутая на самое себя, вятская ярмарка не имела никакого экономического смысла и представляла собой классический пример архаического праздника, в котором торговля сохраняла свои исконные связи с ритуально-мифологической традицией обмена ценностями между человеком и божествами хтонической природы.
 Анализируя структуру и семантику вятской ярмарки, Д. К. Зеленин выявил ее сходство с погребально-поминальной обрядностью (тризной). Как ярмарка, так и тризна сопровождались кулачными боями, разнообразными состязаниями, увеселениями, шумом, оформлялись особыми обрядовыми атрибутами, в частности, изображениями предков. Вероятно, именно этим можно объяснить появление в ассортименте товаров вятской ярмарки антропоморфных глиняных и гипсовых фигурок — позднейших модификаций образов предков.
Анализируя структуру и семантику вятской ярмарки, Д. К. Зеленин выявил ее сходство с погребально-поминальной обрядностью (тризной). Как ярмарка, так и тризна сопровождались кулачными боями, разнообразными состязаниями, увеселениями, шумом, оформлялись особыми обрядовыми атрибутами, в частности, изображениями предков. Вероятно, именно этим можно объяснить появление в ассортименте товаров вятской ярмарки антропоморфных глиняных и гипсовых фигурок — позднейших модификаций образов предков.
|
|
|
Вятская ярмарка-тризна является во многом уникальным, заповедным феноменом, сохранившим свою архаическую целостность благодаря ряду обстоятельств, в том числе переводу части своих существенных характеристик на язык «несерьезного» (детского) праздника — игры: «В настоящее время это детская ярмарка, с преимущественной продажей детских игрушек; дети охотнее всего покупают глиняные " свистульки" и свистят в них. Но в старину было нечто другое»41.
В других регионах Русского Севера сохранились лишь отдельные элементы целостного ярмарочно-поминального комплекса, представленные, например, историческими преданиями «О панах», в которых раскрывается мифологическое происхождение традиции семицкого поминовения «заложных» покойников. В Лодейно-польском уезде в Семик «поминают " панов", т. е. убитых в смутное время поляков. В честь их варят кисель, который и едят у часовни в роще»42. Н. А. Криничная в своей работе, посвященной анализу преданий Русского Севера, выделила основные семантические составляющие образа «панов»: «Паны — это почитаемые умершие, предки, от которых зависит будущий урожай и которым посвящается специальный праздник — Киселев день. " Паны", " панки" — это антропоморфные скульптурные изображения, которые служат воплощением предков и вместилищем их душ. И наконец, " паны" — это холмы, курганы, могилы»43.
Помимо этиологических мифов об установлении праздников поминовения «заложных», в некоторых землях Русского Севера сохранялись традиции «ярморочно-го» свиста: «Свист на Вятских поминальных обрядах-праздниках в честь заложных покойников не представляет собою чего-нибудь исключительно Вятского местного... По крайней мере, имя села Ростовского у. Ярославской губ. Никол а-Дудник... объясняется теперь местными старожилами так: «9 мая, в престольный праздник, в этом селе продавали в большом количестве детские глиняные игрушки... преимущественно же колокольчики особенного устройства и глиняные дудки... »44. Однако несмотря на выветривание архаической семантики ярмарки как праздника поминовения «заложных» покойников (предков вообще), праздничное сакральное восприятие торговли на Русском Севере сохраняется вплоть до 1917 года, когда началось планомерное разрушение священных устоев русской жизни. Еще в 1867 году архангельский губернатор князь Гагарин в своем донесении о состоянии ярмарочной торговли в губернии писал: «История раскрывает, что воскресные базары искони церковью не только не преследовались, а напротив, поощрялись. Прежде чем государство стало учреждать торги, они были покровительствуемы и даже учреждаемы церковью, или же возникли сами собой под стенами церкви или монастыря; таково было происхождение наших ярмарок и базаров... Торговля в земледельческой России и по времени совпадала с учрежденными церковью праздниками, вследствие чего все наши ярмарки называются по именам религиозных праздников»45. Храм и окружающая его церковная земля образовывали сакральный центр ярмарочного
|
|
|
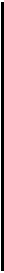 пространства. Вдоль церковной ограды выстраивались торговые ряды, состоявшие из постоянных и временных лавок. В самом храме хранились эталонные общественные весы, которые во время ярмарки устанавливались напротив церковных ворот. Строительство торговых рядов велось за счет церковной казны, которая затем пополнялась от сдачи их в аренду «гостям». Однако из этого вовсе не следует, что церковь была связана с ярмаркой какими-то меркантильными, финансово-экономическими узами. Как уже говорилось, ярмарочная торговля являлась лишь одним из органичных составных элементов религиозного праздничного священнодейства, включавшего приход, эпифанию гостей, которых встречают, одаривают, угощают. Поэтому ярмарка, которая занимала хтоническую периферию ярмарочного пространства, воплощала в себе смеховой антимир, противопоставленный серьезному миру храмового священнодействия. Оппозиция серьезного центра и смеховой периферии предполагала установление между ними диспута-диалога, который, наряду с обменом словесными репликами, включал и обмен материальными ценностями.
пространства. Вдоль церковной ограды выстраивались торговые ряды, состоявшие из постоянных и временных лавок. В самом храме хранились эталонные общественные весы, которые во время ярмарки устанавливались напротив церковных ворот. Строительство торговых рядов велось за счет церковной казны, которая затем пополнялась от сдачи их в аренду «гостям». Однако из этого вовсе не следует, что церковь была связана с ярмаркой какими-то меркантильными, финансово-экономическими узами. Как уже говорилось, ярмарочная торговля являлась лишь одним из органичных составных элементов религиозного праздничного священнодейства, включавшего приход, эпифанию гостей, которых встречают, одаривают, угощают. Поэтому ярмарка, которая занимала хтоническую периферию ярмарочного пространства, воплощала в себе смеховой антимир, противопоставленный серьезному миру храмового священнодействия. Оппозиция серьезного центра и смеховой периферии предполагала установление между ними диспута-диалога, который, наряду с обменом словесными репликами, включал и обмен материальными ценностями.
|
|
|
На Русском Севере длительное время сохраняется архаическая традиция прикрепления ярмарки к нижней, темной, хтонической половине года (зиме), а также к периодам переходного времени (весне и осени). При этом зимние ярмарки имели «мужскую» ипостась и чаще всего связывались с образом св. Николая. Зимним «мужским» Никольским ярмаркам противопоставлялись весенние и осенние ярмарки, имевшие исключительно «женскую» природу, восходящую к образу Пресвятой Богородицы («Введенская», «Успенская», «Благовещенская», «Покровская»). Ономастикой «богородичных» ярмарок дополняется списком «женских» ярмарок, покровительницы которых восходят к своему архетипу-прообразу Богоматери («Мар-гаритинская», «Евдокиевская», «Пятницкая»). Сюда же относится ряд ярмарок, связанных с праздниками явления чудотворного образа Божией Матери. В результате предварительного анализа ярмарочного ономастикона складывается впечатление (которое, несомненно, нуждается в тщательной статистической проработке), что покровителем архаической ярмарочной торговли являлось божество женской природы. Это не противоречит концепции О. М. Фрейденбург (а даже развивает ее) о том, что «торговля олицетворена в хтонических богах»; что та часть греческого храма, где хранилась казна, соответствовала «по своему устройству женским покоям частного дома»; что ярмарочное время (осень и весна) вписывается во временной ритм смерти и воскресения, восходящий к архаическому образу рождающего и погребающего женского чрева. Такова, на наш взгляд, мифологическая «предыстория» и религиозная феноменология северно-русской ярмарки, занимавшей важное место в сакральной топографии и географии Поморья.
Погост как сакральный центр «мира» противопоставлялся «мироколице» — всему остальному пространству волости, составлявшему профаническую периферию волостного мира. В свою очередь «мироколица» также обладала достаточно сложной пространственной организацией, в которой выделялись элементы, наделенные «чистой» и нечистой семантикой. В иерархии «мироколицы» центральное место занимал дом. Особая выделенность дома обусловлена его божественным происхождением. Северные крестьяне «постройку первой избы и прорубку в ней окон приписывают Богу. Бог, говорят, научил человека. То же говорят о домашней утвари, сохе, бороне, телеге, санях, их употреблении и об одежде; а об украшениях — кольцах, серьгах, венках и друг, напротив, т. е. что носить их научил сам сатана»46.
|
|
|
13 Зак. 519
 В этом этиологическом мифе о происхождении предметного мира культуры под явно позднейшими (скорее всего старообрядческими) утилитарными мотивами «полезности» вещей скрывается архаичный религиозно-мифологический мотив строительства Первого дома как сакрального прецедента, который регулярно воспроизводится в строительном мифе и ритуале. Образ жилища в традиционном миросозерцании восточных славян достаточно полно раскрыт в работе А. К. Байбурина47, поэтому, избегая повторений, укажем только на ряд моментов, существенных для целей нашего исследования.
В этом этиологическом мифе о происхождении предметного мира культуры под явно позднейшими (скорее всего старообрядческими) утилитарными мотивами «полезности» вещей скрывается архаичный религиозно-мифологический мотив строительства Первого дома как сакрального прецедента, который регулярно воспроизводится в строительном мифе и ритуале. Образ жилища в традиционном миросозерцании восточных славян достаточно полно раскрыт в работе А. К. Байбурина47, поэтому, избегая повторений, укажем только на ряд моментов, существенных для целей нашего исследования.
Прежде всего следует сказать о различиях в восприятии «живого» дома и «мертвого» (пустого, заброшенного). Если «живой» дом наделяется комплексом благоприятных, положительных значений и связывается с коренными устоями северного «домостроя», то «мертвый» (пустой, заброшенный) дом воспринимается как локус хтонического «антимира»: «Народ думает, что черти всего более обретаются в пустых, нежилых домах, особенно в тех, в которых случались несчастные случаи, как-то: убийство, повесившиеся; говорят, что он пугает. Но есть и такие дома, мимо которых в темное время боятся ходить многие»48. Пустые, заброшенные дома связывались с представлениями о «нечистой» смерти, о «заложных» покойниках. Хто-ническая семантика пустого дома обусловила его важную роль в ритуалах гадания («слушают у пустых строений»), в организации посиделок и в других обрядовых ситуациях, предполагавших контакт с «иным» миром. Пустой дом считался даже более опасным местом, чем кладбище — «узаконенное» царство смерти. Одним из ведущих мотивов святочных рассказов является мотив прихода покойника на посиделки, которые проводились в пустых домах. Содержание этих рассказов сводится к тому, что во время святочных посиделок происходил спор о том, кто отважится посетить «страшные» места: кладбище, пустой дом, колокольню и т. д. Подобное посещение каралось смертью. За нарушителем покоя мертвого мира являлся покойник и либо уводил того с собой, либо убивал.
Одним из таких «смертных» локусов страшных святочных рассказов была баня, которая, как и пустой дом, соотносилась с представлениями о нечистом мире и локализовалась на границе поселения. Бани «обыкновенно относятся от домов на пустопорожние места, как-то: на задворки (позади домов), под угоры, на угоры, или около речки, озер»49. Чем же объяснить тот, казалось бы, парадоксальный факт, что баня, будучи местом, специально предназначенным для очищения, в традиционных верованиях русского народа повсеместно считалась «нечистой»?
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, осложняется несколько упрощенным пониманием категорий «чистоты» и «очищения», с которыми связываются представления о бане. Категория «чистоты», как и все другие абстрактные категории этнического сознания, релятивна, то есть изменяется в зависимости от изменения культурного контекста. То, что в одной культуре воспринимается как «чистое», в другой может оцениваться как «нечистое». Даже в рамках одной этнической традиции возможны различные оценки степени «чистоты». Достаточно указать на отношение старообрядцев к «мирской» посуде как «нечистой». Данное обстоятельство необходимо учитывать при изучении обрядовых функций русской бани, которая, по народным представлениям, считалась «нечистой». По свидетельству В. Магницкого, баня у крестьян б. Вятской губернии почиталась «нечистою»50. У крестьян б. Архангельской губернии «бани совершенно считаются нечистыми зданиями. Но ходить (туда)
в баню мыться должен всякий. Кто не моется в них, тот не считается добрым человеком»51.
«Нечистота» бани отчетливо раскрывается уже в самом процессе ее строительства. По свидетельству П. С. Ефименко, «постройка бань нечиста. Строятся они преимущественно из деревьев, негодных на большие постройки»52. В этом отношении баня принципиально противопоставляется жилищу, выбор материала (деревьев) для строительства которого был строго регламентирован и определялся специальной системой правил и предписаний, основанной на символической классификации деревьев.
«Нечистота» бани, ее связь с хтоническим, «изнаночным» миром специально выявляется и акцентируется обрядом «строительной жертвы», который завершал процесс возведения новой бани. По свидетельству СВ. Максимова, в качестве «строительной жертвы» выступает черная курица, которую, «не ощипывая перьев, душат (а не режут) и в таком виде закапывают в землю под порогом бани, стараясь подогнать время под чистый четверг. Закопав курицу, уходят из бани задом и все время отвешивают поклоны на баню»53.
Использование черной курицы раскрывает хтонический характер обряда «строительной жертвы», поскольку, по верованиям финно-угорских народов, в частности, удмуртов, курицы считаются «как бы достоянием умерших, почему в частных случаях очень часто приносятся они в жертву умерших, также и яйца их»54. Сходные представления сохранились и у восточно-славянских народов, которые использовали черных куриц и петухов в обрядах, направленных на актуализацию мифологических границ «того» и «этого» света. В качестве примера можно указать на восточно-славянские ритуалы гаданий, обряды при переходе в новый дом и т. д.
На хтонический характер «строительной жертвы» при сооружении новой бани указывает и тот факт, что после совершения обряда участники церемонии уходили не обычным способом, а задом наперед. Движение задом наперед, то есть «обратным следом», является, как известно, универсальным мифологическим мотивом. Подобным образом уходят от лешего, возвращаются из потустороннего мира. С этим же мотивом связано запрещение оглядываться при возвращении с кладбища. Данный мотив является частным случаем ритуальной инверсии, то есть переворачивания всех норм и отношений в ситуации перехода, пересечения рубежа, разделяющего мир живых и мир мертвых. Поэтому перевернутость движений участников обряда «строительной жертвы» служит важным доказательством «нечистой», хто-нической природы бани. Об этом же свидетельствует и само время совершения жертвоприношения в бане — Великий Четверг, когда, по народным представлениям, активизируется нечистая сила и требуются специальные усилия (окуривание, омовение, опахивание и т. д. ) для нейтрализации.
Представления о Великом Четверге как о «нечистом» времени связано с тем, что, по мнению Д. К. Зеленина, в русском народном календаре «с этим днем совпал прежний день нового года»55. Если говорить о финно-угорских народах, то у удмуртов, например, Великий Четверг повсеместно считался началом нового года, то есть тем периодом, когда различные злокозненные силы (колдуны, ведьмы, заложные покойники) вторгаются в мир живых людей. Таким образом, обряд «строительной жертвы», завершавший сооружение бани, отчетливо раскрывает ее связь с нечистой силой, с хтоническим миром. В этом отношении баня резко противопоставляется
жилищу. В состав «строительной жертвы» при возведении нового дома у русских входят только такие ритуальные объекты (деньги, ладан, шерсть, зерно, хлеб), которые наделены положительной семантикой и которые, по мнению А. К. Байбурина, связаны «со сложным комплексом представлений о сакральности жилища, его «выводимости» из тела жертвы, взаимоперекодировками между жертвой, жилищем и концепцией устройства мира»56.
С хтонической, «нечистой» природой бани тесно связаны представления о хозяине бани — так называемом байнушке, баннике и т. п. Судя по имеющимся материалам, банник не просто выступает хозяином — хранителем самого помещения бани, но он является прежде всего руководителем банной церемонии, устанавливает нормы поведения в бане, наблюдает за правильностью их исполнения, наказывает нарушителей. По свидетельству П. С. Ефименко, архангельские крестьяне «не ходят в баню в третий пар, т. е. после двух раз мытья безвыходно после каждого приготовления бани, потому что третий пар оставляется байнушку, который будто бы тоже и моется и парится. Иные оставляют для этого воду и веник. В бане нельзя стучать и говорить громко. Иначе байнушко рассердится и напугает. По выходе из бани благодарят так: «спасибо тебе, байнушко, на парной байночке»57. Поскольку баня является «нечистым» местом, постольку поведение человека в ней (своеобразный банный этикет, установленный ее мифологическим хозяином) в определенном отношении строится на нарушении норм и правил повседневного, бытового поведения.
Нарушение стереотипов повседневного поведения в банной церемонии заключается прежде всего в снятии нательного креста, пояса и одежды, которые, с одной стороны, считались знаками принадлежности к человеческому коллективу, а с другой — выполняли важные охранительные функции. По наблюдениям П. С. Ефименко, «с крестом и поясом не ходят в баню, они снимаются и оставляются в домах»58. «Пояс. Он считается и теперь священным предметом и талисманом против нечистой силы и не снимается ни днем, ни ночью, исключая тех случаев, когда нужно идти в баню»59.
На связь бани с представлениями о нечеловеческом мире (антимире), построенном на принципах отклоняющегося поведения, обратил внимание акад. Д. С. Лихачев, который, выясняя функции бани в смеховой культуре Древней Руси, писал: «Когда летописец рассказывает под 1071 г. о верованиях белозерских волхвов, он изображает их представления о вселенной как своего рода смеховой антимир. Согласно представлениям волхвов, бог сотворил человека, когда мылся в бане (как и кабак, баня — символ антимира), из ветошки, мочалки (мочало, ветошка, как и береста, лыко, — это один из смеховых антиматериалов), которую он бросил на землю; бог этот — «антихрист» (т. е. в данном случае «антибог» — дьявол), и сидит он в бездне»60. В высказывании Д. С. Лихачева обращают на себя внимание два момента: во-первых, определение бани как антимира, в котором все стереотипы нормального человеческого поведения оказываются перевернутыми, вывернутыми наизнанку, а во-вторых, исследование мотива сотворения человека в бане, где в качестве творца выступает хтоническое существо — дьявол.
Мифологический мотив сотворения-рождения человека в бане имеет важное значение для решения проблемы генезиса обрядовых функций русской бани, которые тесно связаны с ее «повивальными» функциями. Представление о бане как о
«рождающем» месте нашло отражение в ряде поговорок, зафиксированных В. И. Далем в Поморье. Вот некоторые из них: «Баушка банит или банится — арх. повивает, занята повиванием новорожденного»; «Баня мать вторая или мать родная»; «Из баньки да в ямку» — приговор злых людей по смерти новорожденного»61.
Истолковывая значение термина, обозначающего хозяина бани, В. Даль отмечал, что баенник «не любит родильниц, которых, однако, по тесноте в избе всегда выводят в баню; но их там нельзя покидать одних»62. Причина удаления роженицы в баню заключается, безусловно, не в тесноте избы, а в том, что роды считались делом «нечистым» и происходить они должны были также в месте «нечистом» — в бане. По словам О. М. Фрейденберг, «роженица называется " ожившей", ибо она умирает и вновь воскресает; само материнство становится метафорой воскресения. Женщина по аналогии с землей связывается со смертью и умершими, она гроб, в котором человек умирает и возрождается»63.
В соответствии с хтонической природой акта рождения поведение роженицы строится по модели поведения, принятой в ином, нечеловеческом мире. По представлениям крестьян б. Вятской губ., «в баню роженица должна ходить в самой изорванной одежде, с большим костылем в руках, чтобы посторонние не сказали, что роды ей дались легко, от чего (от пересуд) роженица может изурочиться — сделаться больной. Из бани роженица возвращается, опираясь на плечо повитухи или свекра, чаще мужа»64. Хромота, как известно, является устойчивым признаком целого класса персонажей, связанных с хтоническим миром. В частности, по представлениям крестьян б. Вологодской губ., считалось, что «у кого нет ресниц, тот считается чертом или, во всяком случае, весьма подозрительным человеком, так как у " нехорошего нет ресниц". Подозрительными считались и люди, прихрамывающие, потому что дьявол, как известно, прихрамывает»65. Роженица как представительница хтонического мира должна также прихрамывать. В родильной обрядности символическая хромота роженицы выражалась в том, что она при ходьбе опиралась на костыль либо на плечо повитухи, свекра или мужа. Рваная одежда как один из «антиматериалов», которыми широко оперировала русская народная смеховая культура, усиливала эффект «нечистоты», «изнаночности» поведения роженицы.
Для решения проблем генезиса ритуальных функций русской бани важно обратить внимание на ряд обстоятельств. Во-первых, следует указать на резкое и специально акцентируемое противопоставление бани и церкви: «Баня считается " поганой", потому что в ней нет икон, и вода в ней тоже " поганая": поэтому после бани следует обмыться чистой водой. После бани в тот же день в церковь не ходят»66. Б. А. Успенский отмечает: «В исторических песнях о Лжедмитрии рассказывается о том, как он отправляется в баню, в то время как люди идут в церковь; это также типичная характеристика колдовского поведения, поскольку баня на Руси воспринимается как " нечистое" место, своего рода антипод церкви — и, соответственно, колдуны могут опознаваться именно по тому, что они удаляются в баню, вместо того, чтобы идти в церковь»67. Настойчиво проводимое в фольклорных текстах противопоставление церкви и бани указывает, во-первых, на сакральный статус последней (равновеликий церкви, то есть храму-святилищу), а во-вторых, на ее «поганый», языческий характер. Следовательно, можно предположить, что широко известные по поздним (вторичным) этнографическим и фольклорным источникам многочисленные ритуальные функции русской бани генетически связаны с ее сак-
ральным статусом языческого святилища — храма. Именно к такому, совершенно, на наш взгляд, обоснованному выводу пришел Б. А. Успенский, который считает, что баня «представляет собой домашний храм Волосу»68. Концепцию Б. А. Успенского хотелось бы дополнить одним соображением, которое, по нашему мнению, позволяет уточнить функции бани как языческого храма.
В свое время В. Магницкий отметил, что у крестьян Вятской губ. баня называется почему-то «кузницей»69. Подобное сопоставление бани с кузницей и, соответственно, банной церемонии с технологией кузнечного производства указывает на их единые религиозно-мифологические истоки. Исходный смысл банного священнодейства у восточных славян связан не с мытьем (не со стихией «воды»), а с парением — «выпеканием» в очаге — печи (со стихией «огня»). Ведь не случайно, что баня известна не на всей территории расселения восточных славян: «Украинцы моются в корытах; южнорусские и те белорусы, у которых нет бань, парятся дома, в тех самых печах, в которых варят еду и пекут хлеб. Из протопленной печи выгребают угли, выметают золу и на пол настилают солому. Для того, чтобы в печи появился пар, стенки ее обрызгивают изнутри горячей водой. Забираются в печь через ее устье, женщины нередко вместе с ребенком; затем ложатся на солому головой к устью, задвигают заслонку и парятся горячим березовым веником. Попарившись, обмываются на дворе, даже зимою, холодной водой»70.
Образ человека, помещаемого в печь, вызывает множество разнообразных религиозно-мифологических ассоциаций. Это и мифологический образ Бабы-Яги, изжаривающей героя волшебной сказки в печи. Это и мифологический персонаж Совий — установитель погребального обряда трупосожжения (первый жрец и жертва его). Это, наконец, «жрец»-распорядитель банного ритуала — «жихарь», отмеченный в мифологической лексике Русского Севера: «У русских поморов относительно " жихаря" существует здесь поговорка такого содержания: " Жихарь — пахарь — костяная борода». В представлении поморов " жихарь" является очень злым. В с. Лапин рассказывали, как " жихарь" раз содрал со старухи кожу и растянул эту кожу на каменнице (в бане) сушиться»71. «Костяная борода» жихаря ассоциируется с «костяной ногой» Бабы-Яги, которая связана с погребальным обрядом, предполагавшим разъятие трупа на части. С этим же кругом представлений связан широко известный мотив «запекания» больного ребенка в печи и его последующего выздоравливания. Во всех перечисленных выше ритуально-мифологических сюжетах прослеживается инициационный мотив смерти-воскресения. Этот же мотив лежит в основе банного ритуала, направленного на перерождение человека, на изменение его физической и духовной сущности. Солома, используемая в «печной бане», — это символ «ветхого» человека, через сожжение преодолевающего свою смерть.
Банный ритуал переделки «ветхого» человека через его ритуальное истязание ветками дерева («крестные страдания на древе»), огненное и водное закаливание («крещение») соответствует основным операциям кузнечной технологии (раскаливание металла в огне, его ковка ударами молота и водное охлаждение). Религиозно-мифологическое тождество банной и кузнечной технологий нашло отражение в святочной игре «в кузнеца». Во время этой игры кузнецы-ряженые «перековывают» стариков на молодых. «Интерес игры состоит в том, что при каждом ударе у кузнеца сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным. Когда всех стариков перекуют на молодых, кузнец обращается к девушкам, спрашивая у каждой:
«Тебе, красавица, что сковать? »72. Откровенный эротический мотив «изготовления» — рождения человека, мотив его перековки-переделки сближает кузницу с баней, которая в традиционном русском быту являлась «родильным домом».
Таким образом, проведенный анализ позволяет предположить, что баня являлась языческим храмом — своеобразным инициационным центром, обслуживающим всю систему ритуалов жизненного («переходного») цикла, начиная от рождения человека и кончая его смертью. Видимо, эта столь важная роль бани как одного из главных языческих святилищ обусловила ее появление в тексте «Повести временных лет» в рассказе об апостольской миссии Андрея Первозванного в земли восточных славян.
* * *
Северный мир строился не только на оппозиции «чистого» и «нечистого» пространств; в соответствии с космологическими схемами он был организован иерархически. Иерархия мира находила свое воплощение в геометрии сакрального пространства, представлявшего собой ряд вписанных друг в друга окружностей («мировых кругов»), расходящихся из одного центра — Креста («мирового древа»). «Малый круг» мира образовывался часовенным приходом. «Средний круг» очерчивал границы прихода волостного храма. «Большой круг» представлял собой всеуезд-ный приход городского соборного храма. Крест, триада и круг являлись фундаментальными образами, определявшими все аспекты мирского устроения, в том числе и его пространственную композицию. Эти образы являлись универсальными прообразами — архетипами построения всего русского православного мира, его земель и городов: «1. Все русские города в процессе своего развития стремятся к кругу. А круг — символ вечности, в частности, вечного Царства Небесного. 2. В тех городах, где главным является собор в честь Спасителя или Божией Матери, градостроительная композиция определяется фигурой креста. А там, где соборным храмом города является храм в честь Святой Троицы, определяющей фигурой оказывается треугольник»73. Образ круга как идеальной модели мира, как символа совершенства и небесной красоты входил в саму плоть (сердцевину) северного мирского менталитета. Им определялся весь строй мирского самосознания, вбиравшего в себя представления о причастности своего малого мира земным кругам большого мира уезда, земли, города, Русского государства в целом.
|
|
|


