 |
«Языки» арктического пространства 9 страница
|
|
|
|
Образ мирового круга порождал круговые формы социальной организации северного мира, раскрывавшиеся в традициях земского самоуправления. «Круг» — исходная форма мирских собраний (земских соборов), знаменовавших единство всех членов мира, связанных круговой порукой. Круговая форма социальной организации северного мира, как и казацкий круг, воплощала в себе русские народные представления об идеальном социальном порядке, основанном на началах соборности, где самость уникальной, неповторимой личности не подавляется безличностным пчелиным коллективизмом, но включается в гармонию целого, во всемирную связь людей.
Круг являлся одним из центральных образов северной народной эстетики, совпадавшим по существу с образом неземной Красоты. Этот образ северные зодчие претворили в облике «восьмериковых» храмов, которые в народе называли «круглыми». Красота подобных храмов определяется не тем, что они напоминают
 «по силуэту могучие ели» (М. И. Мильчик), а тем, что в своей конструкции они воплощают саму Истину (крест) и Красоту (круг).
«по силуэту могучие ели» (М. И. Мильчик), а тем, что в своей конструкции они воплощают саму Истину (крест) и Красоту (круг).
Круг с вписанным в него крестом являлся одним из ведущих орнаментальных мотивов северного прикладного искусства, которые освящали вещный бытовой мир, вводили его в мифоритуальный сценарий жизни. Прялка, украшенная таким орнаментом, становилась причастной космической технологии прядения судьбы человека. Обыденное полотенце превращалось в мировую «путь-дорогу», по которой свадебный поезд направляется в «иной» мир невесты, а души мертвых во время поминальной трапезы возвращаются в «свой» мир родного дома.
Круг как символ совершенства являлся эталоном женской красоты. Северная красавица обязательно должна быть «круглой», иметь округлые формы. На пинеж-ском гулянии — «метище» девушки, желая продемонстрировать все свое придание, надевают традиционные наряды (по принципу «матрешки») и «плывут по улице как колокол, чем толще девушка, тем она считается величественнее и значительнее»74. Круг — это не только совершенство форм, но и их завершенность, оплотненность, предельная полнота. Поэтому северные крестьяне при выборе невесты основываются «на следующих требованиях: чтобы невеста была здорова, тельна, тучна, как бывают девушки у зажиточных родителей, работящая и, по возможности, из зажиточного дома»75. Тельность, тучность — это основной критерий при оценке девушки-невесты, который дополняется рядом второстепенных, факультативных признаков, таких как «молода-ли, красива-ли, честна-ли, вздорна-ли, и не рукодельна ли. Это, а также достоинство предков и поведение родителей бывают ввиду при выборе. Есть и пословица: выбирай корову по рогам, а невесту — по родам»76. Если свести воедино важнейшие достоинства невесты (тельность, тучность, породность), то их можно было бы обозначить словом «дородность», которое характеризует не только саму «круглую» красавицу, но и зажиточность, порядочность, ладность ее рода. Другими словами, в глазах северного мира полнота невесты порождена полнотой жизни ее предков, достойно завершивших свой земной круг.
|
|
|
Круговая пространственная композиция северного мира ярко раскрывалась во время храмового (престольного) праздника в круговом шествии крестного хода. Престольный праздник считался главным (основным) праздником мирской общины, которая в этот день чествовала «своего» бога-покровителя, олицетворявшего собой соборное тело «мира». В семиотической организации храмового праздника отчетливо проступают черты архаического «первопраздника», который «своей структурой воспроизводил порубежную ситуацию, когда из Хаоса возникает Космос: он начинается с действий, которые противоположны тому, что считается в данном коллективе нормой, с отрицания существующего статуса и заканчивается восстановлением организованного целого»77.
|
|
|
Олицетворением сил хаоса, хтонической стихии в структуре престольного праздника выступают являющиеся в «мир» гости. «Метафорическое значение празднующего села как " центра мира" выступает в стремлении жителей созвать на свой праздник как можно больше народу: " плохо, когда на празднике мало гостей" »78. Хтоническая семантика храмового ярмарочного гостеприимства отчетливо раскрывается в образах гостей-инородцев (самоедов, ижемцев), которые приезжали на Крещенскую ярмарку в Мезень и на Никольскую — в Пинегу. Хаотические, деструктивные элементы в структуре престольного праздника воплощались в традициях
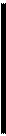 повального пьянства, вызывавшего «великие раздоры и мятежи и неподобные ма-териные брани и бои». Во время престольного праздника в мезенском с. Палащелье «все в деревне было поголовно пьяно, начиная от стариков и старух и кончая четырехлетним детьми, которые валялись на земле как мертвые»79. «Мертвецким» пьянством особо славились храмовые праздники в тех приходах, покровителем которых являлся «пивной бог» — Никола. «Пьянство в Николин день имело повсеместный и ритуальный характер... а глагол " наниколиться" означал " напиться пьяным, празднуя Николин день" 80. В с. Никола-Дудник Ростовского уезда престольный праздник во имя св. Николая включал в себя ярмарку детской игрушки, которая сопровождалась несмолкаемым обрядовым шумом и свистом, раскрывавшим хтонический аспект праздника, присутствие «нечистой» силы хаоса в самом центре храмового ритуала, воспроизводившего космогонический акт творения.
повального пьянства, вызывавшего «великие раздоры и мятежи и неподобные ма-териные брани и бои». Во время престольного праздника в мезенском с. Палащелье «все в деревне было поголовно пьяно, начиная от стариков и старух и кончая четырехлетним детьми, которые валялись на земле как мертвые»79. «Мертвецким» пьянством особо славились храмовые праздники в тех приходах, покровителем которых являлся «пивной бог» — Никола. «Пьянство в Николин день имело повсеместный и ритуальный характер... а глагол " наниколиться" означал " напиться пьяным, празднуя Николин день" 80. В с. Никола-Дудник Ростовского уезда престольный праздник во имя св. Николая включал в себя ярмарку детской игрушки, которая сопровождалась несмолкаемым обрядовым шумом и свистом, раскрывавшим хтонический аспект праздника, присутствие «нечистой» силы хаоса в самом центре храмового ритуала, воспроизводившего космогонический акт творения.
Помимо традиций «мертвецкого» пьянства, обрядового шума, разнообразных буйных увеселений в структуре престольного «первопраздника» отмечены и другие формы сакрального «антиповедения», связанные с ослаблением или даже снятием ограничений в отношениях между полами. Ритуальный свальный грех символизировал распад всех социально-нравственных норм и устоев в период праздничного «безвременья». Но подобные архаические формы антиповедения были чрезвычайно редки и отмечались лишь в таких периферийных заповедниках языческой архаики, как Вятская земля, где во время братчин допускалось снятие запрета на инцест81.
|
|
|
Центральным моментом престольного праздника являлся крестный ход, который в своей пространственной структуре воспроизводил переход от аморфного состояния распавшегося «мира» к космогоническому процессу его воссоздания. Крестный ход, как и «первопраздник» в целом, имел трехчастную структуру. Начало его знаменовалось «проводами» бога. Ход открывался «поднятием икон», то есть выносом главной святыни храма, его «запечатленного ангела» — храмовой иконы. Ангел-хранитель «мира» в сопровождении процессии священников и мирян совершает обход границ «мирового» пространства. Во время крестного хождения иконы по мукам-кругам грешного мира совершается кропление святой водой крестов, стоявших на границе мира, посещение домов мирян, сопровождавшееся пирами-трапезами, и т. п. В символических актах крестного хода воссоздавался великий миротворный круг, происходило очищение «мира» от скверны, восстанавливались утраченные во время праздничного ритуала связь и единство мирян. Крестный обход мира завершался «встречей» иконы (бога), которая возвращалась в свой храм, что знаменовало окончательное воскресение прощенного Богом «мира».
Семиотическая организация крестного хода (престольного праздника в целом) несмотря на известные схождения по форме (трехчастная структура) резко отличается от языческого праздника по своему содержанию. Если в структуре языческого праздника наступление кризисной, маргинальной ситуации связывается с приходом предков в мир людей (встреча божества), а воссоздание порядка соотносится с их уходом (проводы божества), то в чине престольного праздника вторжение деструктивных сил хаоса вызывается уходом («смертью») божественного покровителя мира (проводами храмовой иконы), а восстановление мира знаменуется его возвращением-встречей, которая осмысляется как воскресение, Пасха падшего мира. Иначе говоря, языческий и православный праздники ориентированы в прямо противоположных направлениях (инвентированы по отношению друг к другу). На это очень
|
|
|
существенное, на наш взгляд, различие внимания до сих пор не обращалось. Пожалуй, только в работе В. Н. Топорова, посвященной конным состязаниям на похоронах, содержится указание на возможную «инверсию старого языческого ритуала трупосожжения» в христианское время82.
Смысл подобной инверсии заключался в том, что главное событие («первосо-бытие») любой религии — встреча человека с Богом — в язычестве и православии воспринимается по разному. Если для язычника встреча с богом оборачивается смертью, то для православного человека она знаменует воскресение из мертвых (жизнь вечную). Это различие объясняется тем, что, «как известно, языческие верования непосредственно связаны с культом мертвых (предков)»83. В противовес мрачному смертному пессимизму язычества православное мировоззрение устремлено к радостному и оптимистическому преодолению смерти, к светлому Воскресению. Ведь по существу образ Воскресения, в настоящем и подлинном смысле этого слова, в язычестве отсутствует. Оно представляет собой дурную бесконечность циклически сменяющих друг друга «жизни» и «смерти», которые не обладают какими-либо качественными различиями. Пришествие в мир истинного Бога — Христа разорвало этот замкнутый в себе и на себя круговорот жизни и смерти. Спасение мира от язычества состояло в том, что Христос своею жертвенной смертью уничтожил самое смерть («смертию смерть поправ») и направил мир к конечному и всеобщему Воскресению. Поэтому крестный ход во время православного праздника и воспроизводит последние события земной жизни Спасителя: его крестный путь на Голгофу, мученические страсти на кресте, смерть и воскресение из мертвых. Православное восприятие язычества как религии мертвых распространялось и на католическую (латинскую) веру. В поучениях Киево-Печерского монастыря «латиняне» осуждаются за то, что «мертвому телу Господню служат, считая его мертвецом; мы же службу творим живому телу Господню, самого Господа видя сидяща справа от Отца, который судить придет живых и мертвых. Они ведь латиняне мертвые, потому что мертвую службу творят; мы же Живому Богу жертву чистую и непорочную принося, вечную жизнь обретаем»84. Различная устремленность православия и католичества (к живому Богу и к мертвому) позволяет объяснить, «почему в русской православной традиции смерть и воскресение Христа (Пасха) переживаются острее и напряженнее, чем его рождение (Рождество)»85. Особая популярность Рождества в западном христианстве связана с почитанием мертвого Бога. Ведь рождение (рождество) обременено смертью, а смерть чревата жизнью (воскресением, Пасхой).
|
|
|
Великий миротворный круг крестного хода, освящавший «мир» и укреплявший его границы, дополнялся «магическими кругами» девичьего хоровода, который являлся непременным атрибутом чина престольного праздника. «Храмовые» хороводы сопровождались исполнением «круговых» песен, которые подчеркивали общий «круговой» характер организации пространства престольного праздника. Вообще в песнях северного хоровода ярко выражена их связь с пространственными образами и представлениями. Рисунок песни как бы повторяет графику движения хоровода в праздничном пространстве «мира». Пространственная символика звучит и в самих названиях хороводных песен: «круговые», «веревочные», «продольные», «протяжные», «расхожая и разъезжая дорога» и т. п. Если верно, что «песня — душа народа», то русская душа — это душа народа-странника, для него пространство является не внешней объективной реальностью, которую нужно преобразовывать,
освоить, подчинить, а «духовной лествицей», восходящей к неведомой Земле Обетованной.
Храмовые девичьи хороводы-круги не являлись простыми развлечениями молодежи. Напротив, они обладали огромным мироустроительным пафосом. Отсюда — предельная серьезность участниц хоровода, которые, осознавая свою высокую миссию в «мире», шествуют «медленно, молча, степенно»86. Миротворческие функции хоровода ярко раскрываются в чине мезенского престольного праздника: «В каждой мезенской деревне в престольный праздник (раз в году) водили своеобразные хороводы-круги... Девушки обходили кругом всю деревню, обязательно по движению солнца. Запевалы пели три строго определенные " круговые" песни, исполнявшиеся только раз в году в этот праздник»87. Семантика храмовых хороводов связана с древними магическими представлениями о спасительной силе круга, способного защитить «мир» от хаоса «антимира». В этом смысле троекратное хождение вокруг «мира» посолонь, сопровождавшееся троекратным исполнением круговых песен, функционально тождественно святочному рассказыванию сказок: «В каждом доме надо было рассказать три сказки ежедневно вечером. От этого якобы образовывалось три железных обруча вокруг жилья и они защищали дом от всего плохого»88.
Связь хороводов с судьбами «мира» проявлялась и в том, что в их пространственной организации отражалась пространственная композиция поселения, социальная структура «мира» и его история. В топографии хороводов раскрывалась как «горизонтальная, так и «вертикальная» архитектоника северного села. «Участницы хоровода строились на лугу в определенном порядке — по концам села и по возрасту: обычно впереди становились " верховские" — жительницы той части села, которое называлось " Верховье", за ними шли " серетьские" (из " Срединья" ), затем " низовские" и т. д. »89. Пространственная иерархия хоровода воспроизводит вертикальную иерархию «мира», которая при ее переводе в горизонтальный план воплощается в образах «мировой реки», дороги как композиционной основы мирского пространства села.
В кругах хоровода воспроизводилась и горизонтальная планировочная структура села (его кончанская организация). Если в селе было четыре конца, «то вождение кругов происходило под восемь песен, а если шесть (как в поморской деревне Нименге), то участницы хоровода исполняли двенадцать песен»90. Образ круга как модели организации северного «мира» ярко раскрывается в мезенском храмовом хороводе: «Особого внимания заслуживает порядок, по которому девушек ставили в " круги". Первыми шли девушки " высоких", " коренных" фамилий, в конце — девушки " низких", " некоренных" фамилий. Эту очередность хорошо помнили пожилые женщины, подсказывавшие ее девушкам — хозяйкам праздника. Как удалось выяснить, " высота" фамилии или рода зависела не от богатства, а от древности рода. К высоким, древним родам относились потомки самых первых поселенцев в той или иной деревне; соответственно к " низким" фамилиям — потомки более поздних переселенцев»91. Мезенский круг отражал своеобразную систему северного мирского местничества, которая строилась на оппозиции «высокого» (древнего, родовитого) и «низкого» (менее древнего, менее родовитого). Система местничества регулировала все стороны жизни северного «мира», начиная от высоких сфер праздника до низкой «злобы дня» — повседневного быта. Она определяла выбор невест, занятие мест в органах земского самоуправления, в церкви и т. п. На свадьбе, в
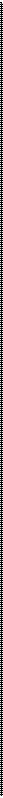 гостях, на посиделках, в мирском сходе миряне «размещались по лавкам чинно, соблюдая правило приличия в занятии мест»92. Место человека в иерархии «мира» определялось не его личными достоинствами, а древностью его рода. Существование системы местничества обосновывалось и санкционировалось ссылками на исторический прецедент, на деяния предков, то есть на начальные времена творения «мира», когда происходило освоение северных земель. Следовательно, история создания того или другого северного «мира» в снятом (квазиисторическом, мифологизированном) виде включалась в его социальную структуру, претворялась в ней. «Социальная структура теснейшим образом связана с историей, ибо в этом заключается способ сохранения форм группы во времени»93. Подобное совпадение диахронии и синхронии, истории и структуры, постоянное присутствие исторического в социальной сердцевине земского строя резко повышало заботу о сохранении исторической памяти, поскольку именно в ней содержалась вся актуальная информация о «мире». Важнейшую роль в сохранении мирских традиций играли представители «первых» фамилий, которые по праву своего первородства являлись хранителями исторической памяти «мира», выразителями его религиозно-мифологического сознания. Поэтому не случайно, что именно они стали жертвами большевистского террора, целенаправленно выкорчевывавшего вековые устои священного космоса русской жизни — святость, царство и земство.
гостях, на посиделках, в мирском сходе миряне «размещались по лавкам чинно, соблюдая правило приличия в занятии мест»92. Место человека в иерархии «мира» определялось не его личными достоинствами, а древностью его рода. Существование системы местничества обосновывалось и санкционировалось ссылками на исторический прецедент, на деяния предков, то есть на начальные времена творения «мира», когда происходило освоение северных земель. Следовательно, история создания того или другого северного «мира» в снятом (квазиисторическом, мифологизированном) виде включалась в его социальную структуру, претворялась в ней. «Социальная структура теснейшим образом связана с историей, ибо в этом заключается способ сохранения форм группы во времени»93. Подобное совпадение диахронии и синхронии, истории и структуры, постоянное присутствие исторического в социальной сердцевине земского строя резко повышало заботу о сохранении исторической памяти, поскольку именно в ней содержалась вся актуальная информация о «мире». Важнейшую роль в сохранении мирских традиций играли представители «первых» фамилий, которые по праву своего первородства являлись хранителями исторической памяти «мира», выразителями его религиозно-мифологического сознания. Поэтому не случайно, что именно они стали жертвами большевистского террора, целенаправленно выкорчевывавшего вековые устои священного космоса русской жизни — святость, царство и земство.
Структура мирского исторического сознания была достаточно сложной. В ней отчетливо прослеживаются следы книжной традиции (сюжеты Священного Писания, местной северной агиографии и т. д. ). Однако ведущую роль в традиционном народном сознании играли исторические предания. Если книжная традиция описывала события священной истории большого мира, то исторические предания воспроизводили процесс творения малого «мира», складывавшегося в результате освоения новых земель.
В ходе славяно-русской колонизации осваивались не только новые (чужие) земли, но и новые (чудские) имена земли. Освоение чудской топонимики заключалось прежде всего в ее переосмыслении (переводе), то есть в попытках прочтения чужого имени в соответствии с нормами родного языка для включения его в контекст своей культуры. Стремление к этимологизации инославянской топонимики (объяснение неизвестного имени через известное) порождало мифологические тексты этиологического характера: исторические предания и топонимические легенды. В качестве одного из примеров мифологизации чудской топонимики можно привести историческое предание (этиологический миф) о происхождении гидронима Вашка: «Есть речка Порвал — тут была прервана оборона. Когда чудь перешла еще одну большую реку, то сказала новгородцам: «Эта река еще ваша, — и ее стали звать Вашкой»94.
Чудские предания представляют собой местный северно-русский вариант восточно-славянских этиологических мифов, главными персонажами которых являются культурный герой и его противник — антагонист (позднейшая модификация «основного мифа»). Сюжет чудского предания основан на мотиве борьбы (поединка) «новгородцев» как носителей устроительного, культуртрегерского начала с чудью, олицетворявшей «нечистую», хтоническую, инородную стихию. В процессе поединка происходит преобразование ландшафта: появляются холмы, пещеры, курганы, ямы, речные пороги; устрояются «города и веси»; устанавливается социальный
 порядок. Освоение Земли сопровождается ее номинацией — раздачей имен, возводимых к сюжету мифа о космическом поединке. Точнее было бы сказать, что не имя возводится к мифу, а миф порождается («провоцируется») именем. Если деревня называется Бросачихой, то с точки зрения народной этимологии вполне «естественно», что в ее имени запечатлена «историческая» битва между новгородцами и чудью, которая бросала с горы камни (побивание противника — отголосок «основного мифа» о поединке Громовержца со Змеем). Гидроним Поганца (Пинежский район) порождает предание о битве новгородцев и чуди, во время которой пролилось много «поганой» крови, поэтому и речка получила соответствующее название. Подобных примеров можно было бы привести достаточно много, и все они свидетельствуют о том, что цикл чудских преданий являлся универсальным этиологическим и историографическим мифом, с помощью которого все странное, чужое и неизвестное получало свое объяснение и включалось в освоенный человеком пространственно-временной континуум.
порядок. Освоение Земли сопровождается ее номинацией — раздачей имен, возводимых к сюжету мифа о космическом поединке. Точнее было бы сказать, что не имя возводится к мифу, а миф порождается («провоцируется») именем. Если деревня называется Бросачихой, то с точки зрения народной этимологии вполне «естественно», что в ее имени запечатлена «историческая» битва между новгородцами и чудью, которая бросала с горы камни (побивание противника — отголосок «основного мифа» о поединке Громовержца со Змеем). Гидроним Поганца (Пинежский район) порождает предание о битве новгородцев и чуди, во время которой пролилось много «поганой» крови, поэтому и речка получила соответствующее название. Подобных примеров можно было бы привести достаточно много, и все они свидетельствуют о том, что цикл чудских преданий являлся универсальным этиологическим и историографическим мифом, с помощью которого все странное, чужое и неизвестное получало свое объяснение и включалось в освоенный человеком пространственно-временной континуум.
Есть определенные основания полагать, что рассказывание исторических преданий о чуди было календарно приурочено к святочному периоду и составляло часть фольклорного репертуара «страшных» вечеров. В качестве примера можно привести топонимическую легенду, объясняющую происхождение названия мезенской деревни Чучепалы: «Повыше деревни по берегу реки Мезени, на высокой горе, в лиственничных рощах, стоял некогда город, населенный чудью. Новгородцы, расселяясь по реке, выбрали и соседнее предгорье, как место удобное и картинное. Первые годы соседи жили в миру, да строптива была чудь и не угадала новгородской чести, не подладилась под новгородскую душу. Задумали люди свободные, люди торговые, корыстные избыть лихих белоглазых соседей и для этого дождались зимы морозной и крепкой. Прямо против городка Чудского, на реке Мезени прорубили они лед поперек всей реки и сделали таким путем широкую полынью. И погнали они чудь из города в ту сторону, где лежала эта полынья; провалилась вся чудь от мала до велика, потонула. Стало то место реки называться кровяным плесом... и прослыла деревушка новгородская Чудьпалой за тем, что тут последняя чудь пала»95.
Святочная природа «исторических» преданий об изгнании чуди и потоплении ее в проруби достаточно очевидно обнаруживается в их сюжетном сходстве с северно-русскими святочными рассказами о шуликонах, которые в крещенский сочельник являлись в мир из проруби, и со святочными играми ряженых, также называвшихся на севере шуликонами. В праздник Богоявления, когда совершался крестный ход на «Иордань», участники святочного карнавала, которые «ходили в святки шуликонами, те раздеваются донага и купаются в прорубях (майнах), на месте Иордана, несмотря ни на какую суровую погоду, дабы освященною водою смыть с себя личину беса»96.
Сюжет мезенского предания об изгнании чуди имеет прямые соответствия в ритуальной традиции народа коми, у которого существовал специальный обряд изгнания чуди. Обряд «топтания чуди», приуроченный к празднику Крещения, открывался выездом всадников, изгонявших чудь из деревни, и завершался у проруби потоплением чуди. Подобный же крещенский обряд изгнания нечистой силы, известный под названием «топтания шишков», был зафиксирован у русского старообрядческого населения Усть-Цильмы на реке Печоре. Любопытно отметить, что об-
 раз всадника в обряде «изгнания чуди» («Шишков») совпадает с образом сибирского шишкуна: «В Сибири шишкунами называли нечистых в виде маленьких людей на конских ногах, появлявшихся из воды на святках... для которых на Севере обычным являлось наименование шуликоны»97. Контаминация образов всадника и сибирского кентавра-шишкуна позволяет предположить, что всадник на коне в обрядах изгнания нечистой силы являлся одной из масок святочного карнавала ряженых, олицетворявших собой воинство кромешного мира, прорвавшегося в мир людей.
раз всадника в обряде «изгнания чуди» («Шишков») совпадает с образом сибирского шишкуна: «В Сибири шишкунами называли нечистых в виде маленьких людей на конских ногах, появлявшихся из воды на святках... для которых на Севере обычным являлось наименование шуликоны»97. Контаминация образов всадника и сибирского кентавра-шишкуна позволяет предположить, что всадник на коне в обрядах изгнания нечистой силы являлся одной из масок святочного карнавала ряженых, олицетворявших собой воинство кромешного мира, прорвавшегося в мир людей.
Таким образом, приведенные выше сопоставления дают определенное основание утверждать, что исторические предания о чуди являлись частью святочного ритуально-мифологического комплекса. Их можно рассматривать как один из вариантов святочных рассказов о страшном, характерной для святок игры с сакральным, опасным балансированием на грани жизни и смерти. Сюжет исторического предания, основанный на мотиве борьбы (поединка), полностью вписывается в эсхатологическую парадигму святочного первопраздника, воспроизводившего поединок сил Хаоса и Космоса на стыке старого и нового года, старого и нового мира.
История творения мира большого (макрокосма) и мира малого (крестьянского микрокосма) не только рассказывается и загадывается, но и демонстрируется, разыгрывается в святочном ритуале. Поэтому в космических образах ряженых святочного маскарада перед нами предстает образ исторической чуди, побеждаемой силой Креста. Эта историческая драма ежегодно воспроизводилась в праздник Богоявления, во время которого совершался обряд изгнания чуди и потопления — крещения ее в священных водах Иордана.
Этимологизация инославянской лексики порождала не только «исторические» чудские предания, но и топонимические легенды. Это происходило прежде всего в •том случае, когда задача заключалась не в выяснении семантики одного топонима, а описании синтактики всей системы локальной топонимики или, по крайней мере, ее значительного фрагмента. Наиболее подходящим алгоритмом решения подобной топонимической задачи являлись схемы семейно-брачных отношений. В результате проведенных операций возникали топонимические легенды патронимического характера.
Одним из наиболее ярких примеров данного жанра является легенда о происхождении инославянской топонимики Онежского берега Белого моря. В легенде рассказывается о том, как один молодой купец-новгородец во время чудского весеннего праздника выдержал свадебные испытания (выиграл гонку на оленях) и в награду получил в жены дочь чухонского старейшины — красавицу Юмборгу. «Стали с молодой женой жить поживать, да детей наживать. И дарила ему Юмборга в год по дочери, по красавице». Дочери подрастали, выходили замуж и разъезжались по всему побережью. Деревни, в которых они поселялись, стали называться их именами: Лямца, Пурнема, Нижма, Талица, Кянда, Ухта, Вейга, Маложма, Покровка. «В память о бабушке рощу священную Юмборгой прозвали, а поле то — Лисьим наволоком. Так и живет эта легенда среди жителей Нижмозера и по сей день»98.
Важно отметить, что в приведенной легенде связи между топонимами не только описываются в терминах семейно-родственных отношений, но имеют и определенное математическое выражение в числовой символике (9 дочерей — 9 селений — 9 топонимов). Известно, что «9» является магическим или сакральным числом (математической «формулой» модели мира). Следовательно, топонимическая легенда
не только объясняет происхождение «чухонских» названий деревень (то есть решает чисто семантическую задачу — «почему так названы»? ), но и проверяет правильность устройства «мирской» топографии путем ее соотнесения с космологическими схемами. Если организация крестьянского мира не соответствует своему первообразу, то она подстраивается, подгоняется под заданный масштаб. Этот «подгон» отчетливо прослеживается в легенде о Юмборге, в которой, для соблюдения девятеричной числовой символики, к восьми дочерям с чухонскими именами добавляется одна дочь с русским именем («На обеденну сторону отъезжала дочка с русским именем Покровка»).
Тернарная числовая символика (производная от «3») отмечена и в топонимическом предании о происхождении названий деревень в окрестностях Холмогор: «На Матигорах жила мать, на Курострове — Кур-отец, в Курье — Курья дочь, в Ухто-строве — Ухт-сын, в Чухченеме — Чух — другой сын»99. Два брата и сестра составляют образ «троицы» как основной константы «мифологического макрокосма и социальной организации»100. Триада являлась одним из фундаментальных принципов земского устроения на Русском Севере.
В топонимическом словаре Вологодской области зафиксирован еще один существенный элемент математической модели мира — сакральное число «7», породившее топоним Семигородняя. «По мнению И. К. Степановского, Семигородная пустынь получила свое название от бывшей здесь Семигородней волости, а сама волость — от семи селений, которые были расположены на семи небольших холмах... »101.
Если предположение И. К. Степановского опирается на реальные основания, то реконструированная им «семичленная» топография крестьянского мира представляет собой идеальное воплощение пространственной структуры мироздания. «Волость с удивительной полнотой воплощала в себе представление средневекового человека о мире. Леса, болота, озера, окружавшие ее, как бы противостояли людям и издревле считались излюбленными местами для злых духов. Внутри волости, напротив, все обжито, обозреваемо, упорядочено и соотнесено одно с другим по законам иерархии: монастырь, погост, часовни, кресты — дома бога, хоромы вокруг — дома человека (не случайно в древнеславянских языках " храм" и " хоромы" означают жилище); бани, овины, риги и гумна, стоящие поодаль, ближе к воде и лесу, — обиталища нечистой силы. Все эти строения и располагались в волости сообразно их значению: если храмы — символы небесного мира — господствовали в пространстве, то кресты, к примеру, были видны лишь из нескольких близстоящих домов, хозяйственные постройки и вовсе находились за околицей или же прятались в низинах, у самого берега.
Но дело не только в иерархии значений. Пространство, таким образом, оказывалось соотнесением и со всемирной историей: алтари указывали на восход — начало мира и рай, в противоположной стороне — закат, конец мира и Страшный суд. Так весь необъятный мир, вся Вселенная включались в сознание человека, который и внутри сравнительно небольшой волости, идя из одной деревни в другую, постоянно перемещался от " дольнего" — земного к " горнему" — небесному. Всякий путь, а тем более к святому месту, имел и религиозно-нравственный смысл. Поэтому-то церкви нередко ставили чуть в стороне от жилья, а монастыри и того дальше, но так, чтобы они всегда могли быть ориентирами — пространственными и духовными одновременно»102.
 ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Древнерусский приход и его пережитки в церковно-общественной жизни Архангель
ской епархии. — Архангельск, 1916. — С. 19.
2 Топоров В. Н. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духов
ной культуре — *svet // Языки культуры и проблемы переводимости. — М., 1987. — С. 189.
3 Там же.
4 Павлов-Силъванский Н. П. Феодализм в России. — М., 1988; Богословский М. М. Зем
ское самоуправление на Русском Севере в XVII веке. — Ч. 1—2. — М., 1909—1912; Юш
ков СВ. Очерки из истории приходской жизни на севере России в XV—XVII вв. — СПб.,
1913.
|
|
|


