 |
Д. Кременской. Докучаевские рощи
|
|
|
|
II
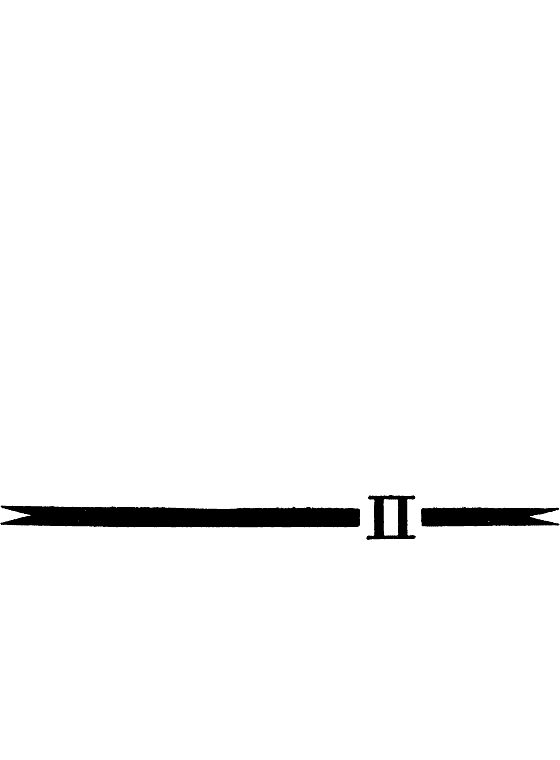
Д. Кременской
Докучаевские рощи
…В багрец и золото одетые леса.
А. Пушкин
В конце октября день уже порядком убавляется. И когда московским журналистам, аккредитованным в Воронеже, наконец‑ таки удалось достать для меня «Волгу», было уже четыре часа. Я забеспокоился: сто восемьдесят километров – не близкий путь, тем паче, что шофер Николай Яковлевич бывал в Каменной степи лет шесть назад, а в пятьдесят четыре года память у человека уж не та…
– Не будем плутать?
– Не должны бы.
По неопределенности ответа я понял: Николай Яковлевич, подобно мне, допускает печальную возможность проблуждать по безлюдным ночным проселкам долгие часы.
Да, дела невеселые… Оказывается, о Каменной степи даже здесь, рядом с нею, почти не знают. Не лучше, чем в Москве, где мой приятель‑ литератор, узнав, куда я еду, уверенно сказал:
– Ага, Каменная степь… Как не знать! Это же в районе Голодной степи.
Другой не менее авторитетно отнес ее в Калмыцкую АССР.
Третьего варианта я не стал ждать. Я‑ то твердо знал, где Каменная степь, знал давно – ровно восемнадцать лет.
Погожим московским утром достал я из почтового ящика свежую «Правду», увидел: через всю полосу протянулась фотопанорама. До самого горизонта уходят бескрайние степные дали. И эти дали перекрещивают, вклиниваются в них необычные, узкие, длинные леса. Не молодые посадки, нет, а именно леса – рукотворные, человеком созданные дубравы, уже многолетние, густые, давно живущие на земле.
На переднем плане светлел пруд, большой как озеро. Он тоже был сделан человеком.
Восемнадцать лет прошло, а я все помню день этого первого заочного знакомства.
|
|
|
…С глухим рокотом катит вперед «Волга», хмуро молчит голодный Николай Яковлевич, – он не успел пообедать, перехватил чего‑ то на ходу, а ему еще сегодня возвращаться в Воронеж.
Кругом совсем темно. Погасла вдали багровая полоска. Сейчас там такое, как везде, обыкновенное темное небо, звезды. Их уже много, взошли все, сколько положено в девятнадцать часов девятнадцатого октября. Боковое окошко опущено, сверкают вверху в полную силу завсегдатаи нашего неба – обе Медведицы, Кассиопея, Цефей, а с востока медленно выползает огромная трапеция – Большой Лев.
Вдруг пыльный луч выхватил невысокий столбик, поперечную стрелку указателя. Мы остановились. Слава богу! – едем правильно. На стрелке черным по белому: «Таловая – 3 километра». Сразу повеселел Николай Яковлевич. Он помнит – от Таловой до Каменной степи считанные километры. Промелькнули дома, элеватор, поднятый шлагбаум – станция Таловая. Вот и она позади. Мы снова на шоссе. И тут внезапно, сразу заслонив горизонт, возникла впереди темная стена. В окошко ударил свежий воздух, легкий ночной ветер, прохладный, как бы даже влажный. Сразу очистились от пыли, далеко и бело протянулись широкие лучи фар.
– В лес въехали – чувствуете? – Николай Яковлевич повернулся ко мне, и я увидел, что он улыбается, впервые за всю дорогу.
С обеих сторон обступили нас темные лесные стены, сплошные, без просвета. Потом пронеслись маленькие деревянные домики, и впереди возник трехэтажный дом. В белом луче мелькнул на мгновение гранитный Докучаев со сбитой набок ветром каменной бородой.
«Волга» стала. Навстречу шагнула женщина.
– Я заведующая гостиницей. Сейчас вас устрою; звонил Игорь Александрович Скачков, наш директор.
Ага! Значит, хозяин «Волги» из Воронежа уже сообщил о нас.
Мы вошли в подъезд, поднялись по ступенькам. Заведующая открыла дверь, щелкнул выключатель. Что это? Где же многолюдный номер, койки в ряд, домино, дым коромыслом?
|
|
|
Стосвечовые лампы льют тихий белый свет на ковры, на хрусталь за стеклянной дверцей венгерского серванта, отражаются в громадном – от пола до потолка – трюмо.
Я растерялся.
– Это частная квартира?
– Нет, гостиница. К нам приезжают ученые из Москвы, из Ленинграда, из‑ за границы. Теперь вот вы приехали, – заведующая улыбнулась, – располагайтесь; есть ванная – можно помыться. – Она протянула ключ. – Будете уходить, запрете. Куда положить, сейчас покажу. У нас спокойно – воров нет, все свои люди.
– Хотите семечек?..
Уже минут пять я слышал из темноты тихое щелканье, но, ей‑ богу же, даже в мыслях не было, что Игорь Александрович Скачков – директор Института сельского хозяйства центрально‑ черноземной полосы имени Докучаева, профессор, доктор наук, заслуженный агроном республики – «лускает семя», как говорили у нас на Украине. Оказалось, «лускает».
В темноте Скачков толкнулся мне в бок рукой с семечками, потом левой рукой нашел мою правую, всыпал полную горсть.
– Пожалуйста. А я все не решался предложить. Московский писатель… еще обидится.
«Обидится»… Как же! Я с наслаждением грызу крупные сухие семечки, громко сплевываю шелуху. Сколько же это лет я не грыз семечек? С тридцать девятого, как перебрался в Москву из Харькова? Да нет – раньше: в Харькове тогда уже не грызли, стеснялись. Значит, этот подсолнуховый запах, этот вкус в последний раз ощущал я во времена почти доисторические, времена туманной юности, – когда жил в Купянске – маленьком районном городке на Харьковщине. Там в те поры «лускать» не стеснялись, это еще не считалось, как позже, дурным тоном.
– Есть еще, Игорь Александрович?
Он обрадовался:
– Есть, есть, у меня полный карман. Вот, пожалуйста.
Мы идем по темной аллее. Кругом пусто, людей нет: кто в кино, кто дома.
По вечерам после работы Скачков гуляет – неважно с давлением, надо ежедневно хоть час дышать свежим воздухом.
– Я ставлю себе задачу – пятьдесят раз пройти по аллее. Это примерно по сто шагов. Всего на круг три километра. Неплохо, если бы регулярно…
Но беда в том, что проходить эти километры Скачкову удается далеко не регулярно.
|
|
|
Работа института начинается ровно в восемь. Годами заведено: руководство не опаздывает. Директор приходит вместе со всеми. А вошел в кабинет, и колесо закрутилось: утренняя почта, телефонные звонки – местные, междугородные, прием сотрудников по всяким делам, а сотрудников в институте свыше двухсот – лаборанты, аспиранты, кандидаты наук, доктора наук. После обеденного перерыва – прием рабочих, служащих. Скачков не только директор, он депутат. Идут с любым вопросом – диапазон широкий: от поступления на работу до семейных свар. А вечером надо читать и писать. Читать новые работы других ученых, писать свои. Они – в плане.
Я слушаю и пугаюсь: не окажется ли эта случайная встреча последней? Смогу ли я втиснуться в плотный график директорского рабочего дня? А без разговора со Скачковым как обойдешься? Он старожил, двадцать лет в Каменной степи, всех и все знает. Но Скачков пока не рассказывает, он расспрашивает, только расспрашивает о литературе, о писателях. Когда‑ то давно, в молодости, сам пробовал писать стихи. Многие пробовали, только не у всех получалось, но интерес к литературе не пропал.
Тогда я сразу, без всякого перехода говорю:
– А как вы попали в Каменную степь? Когда вы впервые о ней услышали?
Он молча замедляет шаг; громче шуршат под ногами палые дубовые листья. В тишине сильнее кажется их крепкий, всегда волнующий запах.
– Услышал впервые в армии – в блиндаже, на фронте. Странно, правда? Сам воронежский, из Валуек родом, а о Каменной степи не знал. И вот блиндаж, не за горами конец войны, но бои идут тяжелые, немцы сопротивляются. И вдруг – полковая рация, далекий голос московского диктора рассказывает о Каменной степи; «Каменная», мол, она теперь только по названию. И тут, мелькнуло – это же все рядом с Воронежем, с моим домом! А я, агроном, доцент сельхозинститута, даже не был там, не видел докучаевских полос. И как никогда захотелось выжить, остаться в живых, чтобы потом работать в Каменной степи, только там.
Мои глаза уже привыкли к темноте. Хорошо видно его лицо, не по годам молодое – пятьдесят два не дашь, большое лицо украинского типа – дед наверняка был просто Скачко, – глаза тоже большие, черные, речь южная, быстрая, порывистая, с мягким «г», с неожиданными перескоками от темы к теме. Ничего нет от солидности, размеренности, от внушительной повадки человека с положением, с весом. Такого навряд ли боятся даже те, на кого подчас следовало бы нагнать страху; к такому смело идут в кабинет в любое время с чепухой, с мелочами; знают по опыту – не выставит. Нет, только вздохнет, скажет тихо: «Пожалуйста, что у вас? » – и отложит важное, не терпящее отлагательства дело. Возможно, во вред этому делу отложит, без надобности отложит и займется чепухой, мелочами, которыми мог бы заняться завхоз. А потом дома, до поздней ночи, будет сидеть за отложенным делом, сидеть до тупой боли в затылке, когда ничего уже не соображаешь и надо немедленно ложиться, а то завтра будет совсем плохо… Слабость характера? Может быть, не знаю… Но мне еще в Воронеже говорили, как этот тихий, мягкий Скачков в лихую годину один как перст осмелился выступить в защиту Каменной степи и отвел от нее страшную беду, уготованную было докучаевскому детищу людьми, всесильными в ту пору в науке, да и не только в науке…
|
|
|
Донкихотство? А может, все‑ таки мужество, честность? Лучше пропасть, чем смолчать, помириться с неправдой.
…Как приходит человек к науке? У каждого свой путь. Он пришел благодаря цыплятам и кроликам. Еще в школе создали сельскохозяйственный кружок, назвали его школьным колхозом, чтобы ребята всерьез взялись за дело. Директор купил сотню яиц, ребята заложили их в самодельный инкубатор. Дело было совсем новое, поэтому особенно интересное. В подвале на каменный пол налили воды – нужна влажность воздуха. Подогревался инкубатор большой керосиновой лампой. Установили круглосуточное дежурство. Ночь напролет сидишь у лампы, прикованный к табурету. Ноги на кирпичах, кругом вода. Сидишь, смотришь на лампу. Она должна гореть ровно, равномерно нагревать яйца. Нарушится режим – все пропало: снова покупай яйца. Так рождалось терпение, упорство, ответственность за порученное дело. Где сейчас те птицеводы? Кто знает… Но несомненно одно – ночи возле лампы на залитом водой подвальном полу запомнились и, думается, были небесполезными для будущего, каким бы оно потом ни оказалось.
Кролики? Да, разводили и кроликов. Они быстро размножаются. А годы были голодные, безмясные, бесхлебные годы…
За труды директор школы премировал ребят кроличьими тушками. Вручали их торжественно на праздничном вечере, как сейчас вручают какой‑ нибудь проигрыватель или радиоприемник. И радость была не меньше. А как же! Тушка – это роскошный обед с жарким на второе.
|
|
|
Конечно же, после школьного колхоза путь один – в сельскохозяйственный вуз. А учиться было трудно: детей служащих тогда принимали с большим разбором и стипендией не обеспечивали. Поступить удалось в агрономический институт на вечернее отделение. И с работой повезло – устроился на опытную станцию, правда, временно – надо было обработать метеорологические данные за целых полвека. Составил таблицы, сдал. Приняли, похвалили. А дальше? Дальше что делать? Вакансий на станции нет. Остался без работы, без денег. Последние гроши на исходе. Впереди голод. Как быть? Бросать институт?
Был в институте такой профессор Васильев, читал ботанику, читал прекрасно. Первокурсники после его лекций почти поголовно решали – «будем ботаниками». Как‑ то после лекций студенты разошлись, а Скачков остался, в коридоре на подоконнике сидит, в окно смотрит. Последние дни здесь… Надо увольняться, искать работу…
Вдруг рядом шаги, оглянулся – Васильев.
– Чего загрустил, Игорек? – Он называл первокурсников еще по‑ школьному – по именам.
Все рассказал, все как есть.
Васильев усмехнулся:
– Почему же раньше молчал? Уже работал бы.
– Где, Владимир Феофилактович?
– У меня на кафедре лаборантом. Место пустует. Я хотел было тебе предложить, да думал – ты при деле. А вот теперь на ловца и зверь бежит. Завтра выходи на работу.
Стал лаборантом – добывал эфирное масло из копытня. Есть такое лесное растение, азарум эвропеум по‑ латыни. Живет в лесу, в сырых местах. Цветы невзрачные, бурые, пахнут перцем. Пчелы их не любят, опыляют мушки. Вид старый, еще линнеевский, но изучено растение мало. Оказалось, копытень – эфиронос. Содержание масла ничтожное; часами сидишь, следишь, как капли падают в мензурку. Потом их учитываешь, замеряя по мензурке.
Работая, он впервые понял значение цифры, самой малой, выражающей доли грамма. Содержание эфирного масла зависело от многих факторов. Их надо было выявить, изучить. Об итогах сделал доклад на студенческом кружке, говорил о цифре, о важности точного ее установления. Васильев сидел, слушал. Потом подошел, взволнованный, обнял.
– Игорек, ты прирожденный исследователь. Как хорошо, что я тебя нашел.
Позже узнал: лаборант при кафедре ботаники не положен. Владимир Феофилактович сам ввел эту должность и работу с копытнем устроил, чтобы было за что платить, а платил из своего оклада, в то время весьма скромного.
Этот человек навсегда остался в памяти. Не встреться он тогда в коридоре – не быть бы Скачкову ученым.
Васильев и позже следил за своим учеником, не выпускал из виду. Работы с копытнем – только начало, первая ступенька по крутой высокой лестнице науки. Надо было взбираться выше.
В тридцатых годах в стране началось массовое внедрение комбайнов. А кадров нет. Решили – студенты на лето должны стать комбайнерами. В институте днем слушали лекции, вечером учились на курсах комбайнеров. Окончили, получили свидетельство. Наступили каникулы, подоспела уборочная. Новоиспеченные комбайнеры отправились на село проверить на деле – чему научился, чего ты стоишь, будущий агроном?
Но комбайнеров в совхозе ждало горькое разочарование – работы нет. Надо возвращаться в Воронеж, два месяца сидеть без дела. А жить на что? На комбайне надеялись подработать.
И вот снова случайная встреча с Васильевым. На этот раз – у трамвайной остановки.
– Игорек, как дела?
– Плохо, Владимир Феофилактович, работы нет. Вернулся из совхоза…
– Будет работа. Ты мне срочно нужен.
Скачков улыбнулся:
– Лаборант?
Васильев погрозил пальцем:
– Молчи уж! Изменил ботанике! Теперь изволь заняться не чистой наукой, а сельскохозяйственной, по новой твоей специальности.
Оказалось: институту экономики срочно требуется научный сотрудник. Институт отправляет экспедицию в Калач, в совхоз. Надо изучить влияние сорняков на работу комбайнов.
– Ну как? Согласен?
Согласен ли он!.. В тот же день выехал. На место прибыл рано утром. Бригада института жила на полевом стане, в вагончике. Сразу приступил к работе. Поля пестрели сорняками. Семьдесят процентов площади занято всякой нечистью: бодяк, вьюнок, щирица, васильки, осот. А пшеница низкорослая, реденькая.
Начал хронометрировать уборку. Слезы, а не работа: комбайнеры неопытные, час косят, два копаются в моторе, устраняют помехи. Надо было выявить причины задержки комбайна.
В поле проводил весь день – от зари до зари, изучал сорняки, распределял их по группам. Студент‑ третьекурсник стал научным сотрудником института экономики. Вернувшись в Воронеж, написал первую свою статью: «Комбайн, культурные растения и сорняки». Статья была напечатана в научном журнале. Старик отец прочел, заплакал. Всю жизнь он проработал на почте телеграфистом. Мечтал, что сын станет образованным человеком, ученым. Мечта сбылась.
Институт окончен. Скачков остался в аспирантуре, защитил диссертацию. Тема ее была связана с уборкой комбайнами – самому не пришлось их водить, но комбайн был «героем» его первой научной статьи; он же стал и «героем» диссертации.
Вечер незаметно перешел в ночь, долгую, многочасовую, октябрьскую. Кое‑ где листья на дубах облетали, сквозь черные ветки показались Плеяды – зимние звезды.
Скачков нарочно идет там, где больше сухих палых листьев. Ему нравится ворошить их, слушать сухой, неожиданно громкий шорох. Я тоже сворачиваю с дорожки. Теперь мы оба шуршим листьями. Говорить трудно – шорох глушит голоса. Я молчу, смотрю на Скачкова. Он увлекся, сгребает листья ногами в большую кучу, потом разбрасывает их. Отдых.
Осень, поздняя осень, когда лист уже побили утренники, навсегда связана в моей памяти с горьким запахом горящих листьев. После школы шли в лес, сгребали, как сейчас, кучи листвы и поджигали. В сухую осень листья быстро загорались, из молочно‑ сизого дыма вырывался и пропадал мгновенный бледный огонь. Его тут же душил дым, но огонь опять вырывался, уже желтый, гудящий, охватывал всю кучу: бездымное высокое пламя вскидывалось вверх. Током горячего воздуха подхватывало листья, они кружились в вышине, медленно оседали на землю.
Я говорю об этом Скачкову. Он смеется.
– Мы то же самое делали. Детство у людей похожее. Потом уже дороги расходятся, люди становятся разными. А дети все как бы одно братство.
И мы заговорили о детстве, о его прекрасных делах – о купанье в речке до озноба, до гусиной кожи на всем теле, о первых яблоках – незрелых, скуловоротных, с белыми семечками. Яблоки еще совсем маленькие, их надо есть целиком, только хвостик выбрасывать. Потом пошла рыбная ловля; лет в семь‑ восемь – на «верховую», когда удочка – просто лозинка с ниткой; на нитке поплавок из пера и маленький, очень острый крючок. Наживляют на него муху. Позже, в десять – двенадцать лет, ловят на донную. Тут удилище уже ореховое, длинное, леса волосяная; на ней свинцовое грузило, пробочный зеленый или красный поплавок; крючок покрупнее, наживляется на него червяк. Насаживать надо так, чтобы червяк сидел плотно свернутый, только кончик должен шевелиться. На такую удочку можно поймать и линя, и леща, и карпа.
– Нет, карп – рыба хитрая, – говорит Скачков, – это – мечта рыболова. Пацанам почти не попадается. Я и сейчас очень редко карпа ловлю.
Скачков ходит удить на Докучаевское море. Жаль, за весь сезон удается порыбачить раз пять‑ шесть, не больше.
И мне вдруг приходит мысль, что мы со Скачковым во многом похожи – детство, юность прошли почти в одних и тех же местах. Купянск и Валуйки – это же очень близко, в соседних областях – Харьковской и Воронежской. И поступать в институт обоим было нелегко – служащие. И оба с первого курса увлекались одной и той же наукой – ботаникой. Потом, после института, пути разошлись: Скачков стал агрономом, ученым, я – ботаником, позже литератором.
И мне уже трудно поверить, что мы познакомились только сегодня. Не хочется расставаться со Скачковым – неизвестно, удастся ли еще вот так ходить взад‑ вперед по дубовой аллее, лускать семечки, говорить, не думая ни о каком этикете, а только о том, о чем хочется. Но время позднее; Плеяды вон уже где… Пора прощаться.
Я спрашиваю Скачкова – с кем завтра встретиться, кто покажет лесные полосы.
– У нас есть отдел пропаганды, есть специальные экскурсоводы, но вам лучше всего познакомиться с Шаповаловым Андреем Андреевичем. Он лесовод, живая история Каменной степи, ученик Высоцкого. С Каменной степью связан дольше всех – с тысяча девятьсот двадцать третьего года. Почти полвека. Приходите в институт к двум – после обеденного перерыва. Я вас познакомлю.
– Как вы думаете, что здесь раньше было?
Я оглядываюсь. Что было… Степь, конечно. Степь есть, степь и была, не очень ровная, всхолмленная, с мелкими западинами.
– Ага. Вот и попали впросак, – Андрей Андреевич Шаповалов смеется. Он всегда задает этот вопрос экскурсантам. Все попадают впросак. – Овраг был, огромный, глубокий, очень агрессивный – все время ширился, углублялся. Докучаевцы назвали его – «Дарьяльское ущелье».
Да, трудно поверить, а было именно так: каждую весну размывали бурные паводковые воды овраг, он становился все глубже, мрачнее, зловещее – степное «Дарьяльское ущелье», на дне до поздней весны грязный, ноздреватый снег, на склонах, как на стене шурфа‑ гиганта, почвенные горизонты – от верхнего, почти метрового, гумусового, черноземного, до нижнего – подстилающего, до древних, желтых, аллювиальных глин. Мутные, быстрые невидимые ручьи глухо урчали в недрах оврага, вгрызались в почву. Склоны рушились, овраг из года в год рос, грозно надвигался на поля, бедные иссохшие поля, вечно страждущие от засухи.
И вот оврага нет – пропал. Осталась мелкая ложбинка, слегка всхолмленная земля. На пологих склонах ее роща: дубы, старые, семидесятилетние; ровные, мощные стволы высоко подняли густые, в толстой коричневой листве, широкие кроны; среди дубов золотятся полусквозные березы. Их мало. Век березовый короче дубового. Живут самые стойкие, самые крепкие. Но и им жить недолго. Останутся дубы. Медленно будут расти ввысь, набирать годовые кольца. Сколько лет простоят они здесь, на месте бывшего «Дарьяльского ущелья», которое сровняли со степью, не оставив о нем и помина? Кто знает…
В Усманском лесу я видел трехсотлетние дубы. Они не очень высоки, но стволы их страшной толщины – самый мощный мы вчетвером еле обхватили, взявшись за руки. А в подмосковном Коломенском, в царской вотчине Алексея Михайловича, четырем дубам по восемьсот лет.
Этим всего семьдесят с хвостиком. Деревья в расцвете сил. Жить и жить…
– Хороши, – Шаповалов подходит к крайнему дубу, медленно проводит рукой по стволу. Серая шероховатая кора тепла на ощупь – день погожий, ясный. Но мне кажется – не солнечные лучи нагрели кору, а неиссякаемая жизненная сила, наполняющая могучее дерево.
Я смотрю на Шаповалова. Он и эти дубы – почти ровесники. Он – ветеран Каменной степи. Когда в двадцать третьем году приехал сюда еще практикантом, деревья были совсем молодыми, тридцатилетними. Не дубы – дубки. Но оврага уже не было. Деревья одолели его очень быстро. Овраг зарос. Осталась неглубокая Хорольская балка. Овраг был сухой, только в ливни да в паводок видел воду. Она появлялась ненадолго – мутный ревущий поток вгрызался в дно, размывал землю. Потом все стихало – до следующего ливня, до будущей весны.
Когда овраг зарос, на дне его пробился маленький, очень холодный родничок. Грунтовые воды поднялись под пологом леса. Родничок и сейчас есть. Ночью слышен его тихий голос.
– Вы – ботаник, вам это интересно, – говорит Шаповалов, – смотрите, как четко, по зонам распределена здесь травянистая растительность. Режим влаги диктует свои законы.
Да, отдельные зоны даже сейчас, в октябре, резко различаются по цвету: в низине густо кустится болотная осока, ситник. Выше – луговые злаки – белица, лисохвост, тимофеевка; они еле различимы: колоски осыпались. Луговое разнотравье тоже высохло – торчат сухие прутики. Еще выше на склоне, на опушке рощи – лесные растения, эти с листьями: зверобой, папоротники, хвощи.
Когда был овраг, ничего этого не было; лес привел с собою родник, привел эти разные, непохожие друг на друга травы.
Я присел на корточки, роюсь в ломких стеблях; вспоминаю старину, пробую по вегетативным признакам определить виды.
Шаповалов стоит рядом, ждет. Высокий, седой, сутулый, в очках, в старомодном длиннополом пальто, в широкополой шляпе; в руках березовый прутик. Объясняя, показывает, как указкой.
Когда мы утром знакомились в институте, потом ехали сюда, я думал – хорошо, что с нами вездеходный «козел», – другая машина останавливалась бы на проселке, к рощам иди пешком. Мне‑ то ничего, я пока в форме, а Шаповалову долго ходить нелегко.
Но вот я поднялся с земли. Шаповалов идет впереди, взошел на одну гряду, на другую. Я убыстрил шаг – сейчас обгоню и обожду на гребне. Нет, идем вровень. Третий взгорок. Он круче остальных. Не останавливаясь, не умеряя шаг, Шаповалов как по ровному взошел, оглянулся – я чуть отстал, немного – шага на два. Он улыбнулся уголком рта – видно, угадал мои мысли. А может, проверяет себя?
Не так давно он сильно болел; болезнь оказалась тяжелой, очень редкой.
На Сорок четвертой полосе, заметил Шаповалов, вдруг стали суховершинить дубы – прекрасные, мощные дубы первого бонитета. В чем дело? Стал рыть шурфы – нет ли засоления, переувлажнения? Нет, везде обычный чернозем, но в шурфе почему‑ то пахнет грибами. Откуда им быть на такой глубине? И вдруг закашлялся, выступили слезы. Решил – простуда, пройдет.
На другой день снова в шурф, хотя кашель мучит, сил нет.
Вынул нож, стал отрывать дубовые корни, а они – в язвах, ткань мертвая, кусками отваливается. Содрал корни, отправил в Институт защиты растений.
А ему становилось все хуже. Пропал голос, по ночам не спал, задыхался от кашля. Решил – рак горла. Вызвал из Куйбышева сына‑ офицера. Сын приехал, увез с собой в госпиталь. Там установили – горло поражено микробами с дубовых корней.
Долго лечился, выздоровел, вернулся в институт.
Заместитель директора по науке встретил смущенно:
– Думали, не скоро поправитесь. Назначили другого завотделом. Может, хотите отдохнуть, Андрей Андреевич? Года немалые, болели сильно.
Что? На пенсию? Уйти от леса? От дела всей жизни? Но это же конец, смерть! Он остался в отделе просто научным сотрудником.
Сейчас опять ведет отдел, правда, как исполняющий обязанности заведующего. Но это чепуха, мелочь. Главное, ему никто не мешает работать, и он в свои шестьдесят восемь лет работает, как и прежде, как все сорок три года: основное время в поле, на лесополосах. Так всегда работали здесь все ученые, начиная с Докучаева, все лесоводы: Собеневский – создатель первых лесополос, знаменитый Морозов – отец русского леса, Высоцкий – ученик Докучаева. Шаповалов учился у Высоцкого, стал кандидатом. Позже написал докторскую диссертацию «Лес и грунтовые воды». Защитить не успел – война. Шаповалов отпечатал на машинке три экземпляра диссертации. Все были спрятаны в разных местах, и все погибли – война… Сейчас написана новая докторская.
– Дуб у нас самая лучшая порода, – Шаповалов стоит на вершине балки, рассказывает о дубе. Достоинства дуба – стойкость против засух и против заболеваний, долговечность, высококачественная древесина. Почти сто лет назад – в 70‑ х годах – лесничий Тиханов стал впервые высаживать дуб в степи. В товарищи дубу дал вяз и берест. Но и вяз и берест оказались неверными друзьями – в первые же годы стали глушить дубки, потом, через десяток лет, сами погибли. Неудача. Но начало было положено: в степи должен расти дуб. Это вне сомнения. Только как его вырастить? За семьдесят с лишним лет Каменная степь выработала проверенные практические рекомендации посадок полезащитных лесных полос. Известно, какие подходят для степи древесные и кустарниковые породы, как их смешивать, как они поведут себя в дальнейшем, как за ними ухаживать. Над всем этим почти целый век работали поколения русских лесоводов, работали пожизненно – от молодости до смерти.
…Мы стоим на гребне Хорольской балки. С востока лес заслоняет даль. Но с других сторон она открыта. Уходят к горизонту узкие и длинные рощи. Они окаймляют громадные прямоугольники полей. Поля разных цветов – иссиня чернеют пары, свежо, зелено, словно после дождя, сверкают озими. Зелень сейчас только внизу. Леса уже сплошь пожелтели. Темной бронзой мерцают дубы, светятся золотисто березы, липы. Редкими красноватыми пятнами вкраплена дикая груша. Холодно синеет тяжелая гладь пруда‑ великана.
– Отсюда пошла наша Каменная степь, – говорит Шаповалов. – Мы в зоне самых старых насаждений, еще не полезащитных: они противоэрозионные, закрепили овраг. Это начало девяностых годов.
Я смотрю вдаль. Леса уходят за горизонт. Они не сплошные, нет, но они везде. Самые длинные протянулись с севера на юг, другие – короче – с востока на запад. И все пространство вдали разноцветное – синее, зеленое, черное, коричневое, желтое. Поверить трудно, что воды и леса эти – только оазис, что со всех сторон окружили его невидимые отсюда безлесные, безводные южнорусские степи. Плодороднейшая почва – чернозем – создавалась здесь веками; веками, вершок за вершком, копились в земле остатки перегнивших трав, некогда буйных, скрывавших всадника с конем. Но это было в давние, очень давние времена.
Тогда днями ехал путник по степи и не встречал жилья. Вокруг – безграничная, замкнутая лишь изгибом горизонта, вся в белых всплесках ковыльной пены целинная степь. В недрах ее загоралось утром и угасало вечером солнце. Ночью поднимались из нее на синюю небесную гладь золотые стаи звезд, на рассвете уходили обратно в темно‑ зеленую глубину. Не отражая их, степь тихо шумела, катя свои непрозрачные сухие волны.
Но здесь, на гребне водоразделов Волги и Дона, людей было мало – места сухие, безводные, безречные. До речки Битюга полсотни верст, еще дальше Хопер. Степные балки оживают только весной, в паводок.
…На бесшумном институтском «козле» мы медленно едем по узким проселкам, по межам, по опушкам лесных полос, объезжаем шаповаловскую «епархию». Я попросил показать рощи сначала издали, в перспективе, потом уж познакомлюсь с каждой вблизи. Рельеф не везде ровный – есть понижения, западины. Не появись леса – здесь зияли бы овраги. Теперь землю охраняет лес, зеленая ограда защищает от суховеев, от ливневых и паводковых потоков.
На меже что‑ то сереет. Водитель притормаживает «козла». Оказывается, большой кругляш‑ валун.
Шаповалов говорит:
– Здесь залегал когда‑ то ледник. Его наследство. В оврагах много валунов, обкатанной гальки. Серые кости земли… От них, верно, и пошло наше название – Каменная степь. А может, не только от них – в засуху земля высыхала, трескалась, становилась каменно‑ твердой. Так что смысл двоякий. Но наименована наша степь, думаю я, не так давно.
Да, Каменная степь долго не знала человека. Постоянные селения возникли только в петровские времена. Работать на земле было выгодно: аршинной толщины чернозем приносил богатейшие урожаи. Пахали, сеяли, жали, пока поле хорошо родило. Когда истощалось, бросали, переходили на другое – земли кругом вволю.
Так шло примерно двести лет. Во второй половине прошлого века урожаи поубавились. Земли стало меньше. Ей давали передышку, пускали под залежь уже не на двадцать лет, как встарь, а на пять, на три, на два года. Степь стала сохнуть. Все чаще случались неурожаи.
В 1891 году разразилась беда невиданная, небывалая. Великий голод охватил целые губернии. Словно от моровой язвы, вымирали целые села. Царское правительство предприняло жалкие попытки помочь беде – благотворительные сборы среди «имущих классов», столовые для голодающих… Разве этим остановишь беду? О разорении земли надлежало подумать раньше. Но кому было думать‑ то? Александру Третьему? Его правительству?
На помощь голодающим крестьянам пришли лучшие люди России: ее писатели – Лев Толстой, Чехов, Короленко; ее ученые – Костычев, Измаильский, Докучаев.
Павел Александрович Костычев – агроном, почвовед, профессор университета – изъездил вдоль и поперек пятьдесят тысяч десятин степи, все выпытывал у нее – почему сохнет? Ухудшился климат? Меньше стало дождей?
И Александр Алексеевич Измаильский – друг Докучаева – годами бился над тем же проклятым вопросом. Неужели же виной климат? Тогда спасенья нет. А может, причины иные?
Очень трудно установить дату и место рождения той или иной науки. Исключением является почвоведение. Точно известно и признано всем миром: генетическое почвоведение родилось в восьмидесятых годах прошлого столетия в Петербургском университете.
Отцу новой науки, профессору Василию Васильевичу Докучаеву в черный для России год исполнилось сорок пять лет, он был на вершине славы. Уже вышел классический «Русский чернозем», уже были блестяще проведены первые в России почвоведческие экспедиции – Нижегородская, Полтавская; университетские лекции Докучаева собирали огромные аудитории.
Беда, разразившаяся на юге России, застала Докучаева в работе над новой книгой. «Наши степи прежде и теперь» вышли в 1892 году. Гонорар за книгу поступил в пользу голодающих. Но неизмеримо ценнее была сама книга. Докучаев отвечал в ней на проклятый вопрос. Нечего все валить на климат. Виноваты люди – нерадивые хозяева России. Земледелие наше «находится в таком надорванном, надломленном ненормальном состоянии потому, что оно является биржевой игрой, азартность которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться». Капитализм с его хищнической системой землепользования – вот кто губит степь!
Вырублены почти все старые степные леса. Они росли на водоразделах в балках, копили снег зимой, задерживали дождевую влагу летом, мешали высохнуть степи.
С Докучаевым согласен Измаильский. Да, все это сделал человек. «Он лишил степь гигантской растительности и уничтожил тот толстый войлок из отмерших растительных остатков, который как губка всасывал воду и защищал почву от иссушающего действия солнечных лучей и ветра».
Как и Докучаев, Измаильский предупреждает: «Если мы будем продолжать так же беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся в бесплодную пустыню».
Пустыня – вот страшное будущее степи! Уже кое‑ где белеют заросшие полынью зловещие пятна бесплодных солонцов. Их будет все больше. Суховеи выдувают плодородный слой, черные бури гуляют по степи, наметая земляные сугробы. Они, как снег зимой, останавливают поезда, засыпают сады, поселки; сухие душные тучи пыли несутся над землей. Солнце – багровый шар без лучей – зловеще висит в небе. Твердые земляные крупинки, как дробь, сбивают листья с жалких посевов, вышибают их с корнем.
К Измаильскому, к Докучаеву присоединяется Костычев.
Некогда комковатая черноземная почва, пронизанная тонкими корешками трав, превратилась ныне в пыль, в порошок. Сколько бы ни шло дождей, вода не задержится в почве, уйдет в овраги, в балки. Но растению важно не количество выпавших осадков, а количество влаги, впитанной почвой.
Три известнейших ученых России порознь пришли к одному выводу: человек иссушил степь, человек должен ее и спасти.
– …Свернем к колодцу, – говорит Шаповалов.
Приминая палый лист, «козел» неслышно входит под редеющий полог старых дубов, останавливается у решетчатой ограды. Андрей Андреевич открывает дверцу. Входим.
Низкий деревянный сруб. На шестах памятная доска – «Колодец № 1 по наблюдениям за режимом подземных вод в лесных полосах Каменной степи, начатым в 1892 году особой экспедицией под руководством В. В. Докучаева».
Ниже диаграмма изменения уровня грунтовых вод по месяцам и годам. Видно, как кривая набирает высоту, очень медленно, год за годом ползет вверх.
Реликвия? Начало начал Каменной степи? Сейчас – да. Но в свое время – бастион, передний край борьбы. Докучаев сражался на два фронта. Один – власти предержащие, их равнодушие, их уверенность, что против природы не пойдешь.
Другой фронт – ученые. Они искренне болели за судьбу степи; но разве можно спасти степь, как предлагает Докучаев? Сажать леса – это же вконец погубить степь. Лес обводняет только горы, а равнины сушит, забирает из почвы и без того скудные запасы влаги. Поэтому лес и степь – извечные противники, извечная между ними борьба. Где, когда они мирно уживались? Природа не знает такого. Лес в степи – пасынок, оттеснен на задворки, ютится где‑ то в балках, как огня боится выйти на ровное открытое место. И не зря боится: степные травы тут же заглушают его – им самим едва хватает почвенной влаги. И сильные травы сразу же забивают древесные сеянцы, губят, не дав окрепнуть. Скрепя сердце степь терпит только кустарники, одиночные жалкие куртинки – бобовник, ракитник, дрок; они притаились в западинках, живут тише воды, ниже травы. Попробуй подняться – трава немедленно же сживет со свету.
Посему вводить лесные культуры в степь – это ненаучно, бессмысленно, это значит действовать вопреки общеизвестным, твердо установленным фактам.
– Что оставалось делать Докучаеву? – Шаповалов оживился, часто поправл
|
|
|


