 |
Изучение молодежных субкультур
|
|
|
|
Изучение молодежных субкультур составляет важное направление социологии молодежи. С 1960-х гг. к этой проблематике обратились ведущие социологи разных стран мира, а в 1980-е гг. — и отечественные социологии.
Зарубежные исследования. Понятие «молодежная культура» первым употребил Т. Парсонс59. Для него молодежь — важнейший компонент социальной структуры общества, транзитивная социальная группа, находящаяся на стыке двух ценностных систем — традиционного и современного обществ — и обеспечивающая плавный, гармоничный либо конфликтный, кризисный переход от одного типа общества к другому. Как и другие возрастные категории населения, молодежь выполняет очень важные функции, а именно адаптации, интеграции и поддержки общественной системы в сбалансированном состоянии. Но выполнить свою историческую роль молодежи, возможно, труднее, чем другим социальным группам. Во всем виновато ускорение исторического прогресса. Современная молодежь не может, как прежде, воспользоваться жизненным опытом поколения взрослых, накопленного ими в молодые годы. Молодость детей и отцов протекает в разных обществах, требует разных талантов, навыков и квалификации, подхода к достижению социальных статусов и выполнению социальных ролей, вот почему родители ничему не могут научить взрослеющих детей. Хотя по инерции продолжают выполнять свою функцию социализатора: поучают, запрещают, контролируют. Традиционные роли, которые нынешняя молодежь усвоила в семье, вряд ли поможет им достичь успеха и получить взрослые статусы и роли в обществе, о котором сами взрослые ничего не знают. Кто же тогда может оказать помощь? Спасителем выступают группы ровесников. Молодежные субкультуры облегчают адаптацию подростков и юношей в новой среде, помогают тяжелому процессу перехода детей во взрослый статус. Именно в этом Т. Парсонс видел основную функцию молодежной культуры.
|
|
|
58 Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. Учеб. пособие, 2000;
Социология молодежи. Учеб. / Отв. ред. В.Т. Лисовский. СПб., 1996; Лисовский В.Т. Социальные
изменения в молодежной среде (http://credo-new.narod.ru).
59 Parsons Т. Age and Sex in the Social Structure of the United States // Essays in Sociological Theory. Glencoe,
1942.
В дальнейшем функциональный подход к молодежи развивал Ш.Эйзен-штадт60. По его мнению, молодежная субкультура — это период подготовки молодых людей к миру вне семьи. Она ограниченная пространственными — только малой группой сверстников — и временными рамками, так как по мере перехода молодежи во взрослый мир существование и поддержание субкультуры становятся излишним.
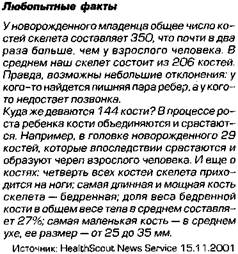
|
В отличие от тех, кто видел в молодежи социальную проблему, Парсонс и Эйзенштадт считали, что все молодежные субкультуры, несмотря на поведение, стиль или сленг, были, в конечном счете некоторыми адаптивными формами, их существование помогало обществу в целом достигать стабильности, и с этой точки зрения они были социально значимыми и положительными.
Согласно Эйзенштадту, по мере взросления место семьи занимает молодежная группа, которая выполняет как объединяющие, так и разъединяющие функции. В молодежных группах происходит смена ролей — от тех, которые устанавливаются родственным окружением, к тем, которые исходят от требований общества. Такой переход имеет вид совместной борьбы молодежи против ролей, навязываемых взрослыми. Смена социальных ролей может принимать девиантный характер.
В книге «Деньги, мораль и манеры: культура французского и американского высшего-среднего класса»61 Мишель Ламонт описывает субкультуру яппи по результатам интервью, проведенного с помощью метода «символических границ», призванного дать реконструкцию субъективных представлений о «своих» и «чужих». Автор провела 160 глубинных интервью в четырех городах — во Франции (Париж, Клермон-Ферран) и в США (Нью-Йорк, Индианаполис). Основной вывод социолога — в обеих странах представители верхнего слоя среднего класса определяют людей своего круга по одному из трех критериев — мораль, культура, социо-экономический статус. При этом наиболее важными в США являются и моральные и социоэкономические границы, а во Франции — моральные и культурные. В СШАлидирует категория «успеха» (в частности, материального), а для французских респондентов значительно важнее «власть». Представители зажиточных слоев воспринимают друг друга также по критериям «утонченности» и «дурного вкуса». Много внимания автор уделяет рассмотрению национальных различий между французским и американским верхним слоем среднего класса (исторические и культурные различия, работа культурных индустрии, экономическая ситуация).
|
|
|
60 Eisestadt S. From Generation to Generation. N.Y., 1956.
61 Lament M. Money, morals and manners: the culture of the French and the American Upper-Middle Class.
Chicago, 1992.
Специально изучавший лозунги и мышление бунтующей молодежи американский психиатр К. Кенистон обнаружил, что между этой молодежью и взрослым миром сложилась «расширяющаяся пропасть»62.
О том, что современная социология молодежи, прежде всего за рубежом, расчленилась на множество ветвей и направлений, говорить уже, кажется, не приходится. Подобная пролиферация научного знания на уровне отраслевой социологии давно уже стала свершившимся фактом. Гораздо меньше известно о том, что внутри выделившихся направлений ныне формируются самостоятельные субнаправления, которые накопили немалый исследовательский опыт и значительное число теоретических концепций. Так, в предисловии к пятому изданию своей книги Саймон Фрис63 утверждает, что социология рока выступает составной частью социологии молодежи, что через музыку альтернативного рока молодежь стремится выразить свое несогласие с господствующей в постиндустриальном обществе массовой культурой (так называемым мейнстримом — основным потоком культуры), которая за последние десятилетия успела все коммерциализировать, даже прежнюю форму молодежного протеста — музыку рок-н-ролл. Изучением этих процессов в США занимались Саймон Фрис, Дина Вайнштейн64, Да-ниель Дотер65, Джордж Левис66, Джей Лалл67, Холи Круз68, Эмми Мохан и Джин Мелоун69 и др. Все они стремятся показать, что альтернативный рок выступает для современной молодежи языком общения, при помощи которого они создают свою субкультуру, отличающуюся от мейнстрима.
|
|
|
В. Тэрнер описывает общины хиппи в контексте социокультурных ритуалов и символов70. На Западе и в нашей стране возникают музеи атрибутики и истории молодежных субкультур, в том числе битников, хиппи, рокеров, панков и рок-культуры, появляются публикации хипповского фольклора и сленга71.
Культурные исследования. Значительный вклад в развитие молодежной субкультурной проблематики внес Центр современных культурных исследований при Бермигенском университете (Англия) — Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS, создан в 1964 г.), которым вначале руко-
Keniston К. The Uncommitted. Alienated Youth in American Society. N.Y., 1966.
63 Frith S. Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of Rock'n Roll. N.Y., 1981. P. 9.
64 Weinstein, Deena. Heavy Metal: A Cultural Sociology. N.Y., 1991; Eadem. Rock: Youth and It's Music //
Adolescents and Their Music: If It's Too Loud, You're Too Old / Ed. by J. Epstein. N.Y., 1994. P. 3-24.
65 Dotter D. Growing Up Is Hard To Do: Rock and Roll Performers as Cultural Heroes // Sociological
Spectrum. 1987. Vol. 7. P. 25-44; Idem. Rock and Roll Is Here to Stray: Youth Subculture, Deviance, and
Social Typing in Rock's Early Years//Adolescents and Their Music: If It's Too Loud, You're Too Old/ Ed.
by J. Epstein. N.Y., 1994. P. 87-113.
66 Lewis George H. Patterns of Meaning and Choice: Taste Cultures in Popular Music // Popular Music and
Communication / Ed. by James Lull. Newbury Park, 1987. P. 198-211.
67 Lull J. Thrashing in the Pit: An Ethnography of San Francisco Punk Subculutre / T. Lindlof (ed.) // Natural
Audiences: Qualitative Research of Media Uses and Effects. Norwood, NJ, 1987.
68 Kruse H. Subcultural Identity in Alternative Music Culture // Popular Music. 1993. Vol. 12(1). P. 33-41.
69 Mohan Amy В., Jean Malone. Popular Music as «Social Cement»: A Content Analysis of Social Criticism
and Alienation in Alternative-Music Song Titles / Jon Epstein (ed.) // Adolescents and Their Music: If It's
Too Loud, You're Too Old. N.Y., 1994. P. 251-282.
70 Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
71 Лурье В.Ф. Материалы по современному ленинградскому фольклору // Учеб. материал по теории
литературы: Жанры словесного текста: Анекдот. Таллинн, 1989. С. 118-151; Эхо тусовки // Кроко
дил. 1989. № 25. С. 15; Рожанский Ф.И. Сленг хиппи: Материалы к словарю. СПб., Париж, 1992.
|
|
|
водил Р. Хоггарт, а затем С. Халл. К основоположникам традиции «культурных исследований», кроме того, относят Р. Уильямса и Е. Томпсона. Как самостоятельное направление стало складываться в конце 1950-х гг. в Англии, а позже распространилось на Северную Америку и Австралию. Появились соответствующие центры исследования, а также дипломированные специалисты, студенты, присуждение научных степеней, программы учебных курсов, публикации во многих журналах. В 1960—70-е гг. культурные исследования входили в число обязательных курсов по культурологии во многих английских университетах. Исторически культурные исследования возникли из исследований культуры рабочего класса и популярной культуры. Поворотными оказались две книги: «Польза грамотности» (1957) Р. Хог-гарта и «Культура и общество» (1958) Р. Уильямса. Авторы, молодые люди, выходцы из рабочего класса, закончили университет и первое время специализировались в области истории английской литературы. Но быстро охладев к академическим стереотипам, взялись за исследование реальной истории британской культуры, отраженной в образе жизни и повседневных отношениях людей.
Значение этих книг состоит в использовании социологической перспективы к анализу культуры (хотя оба автора в то время имели весьма поверхностные представления о социологии). В результате их усилий проблемы поп-культуры стали основной темой рассуждений в культурологии. С самого начала их представители противопоставляли свою позицию британской академической традиции в изучении культуры, которая ограничивалась высокой культурой (изящные искусства) и ролью творческой элиты.
Культурные исследования — междисциплинарная область знания, формирующаяся на стыке социологии, антропологии, культурологии, истории, литературоведения, демографии, эпидеомологии, а их теоретико-методологической базой выступают идеи символического интеракционизма, неомарксизма, чикагской школы и др.
Среди методов признаются включенное наблюдение, контент-анализ, этнографические исследования. Культурные исследования основываются на следующих теоретико-методологических положениях. Культура не делится на высокую и низкую, она представляет собой образ жизни конкретной социальной группы в обществе. Огромное, если не решающее, влияние на ее характер и содержание оказывают политический строй, социальная структура общества, средства массовой информации и идеология.
|
|
|
Главным предметом исследования выступает популярная культура, которая охватывает большинство населения страны. В приобщении к ней важную роль играют механизмы социализации и СМИ. Культуру необходимо рассматривать не в статике, а в динамике, обращая особое внимание на социокультурные конфликты и повседневное контактное взаимодействие людей. Все явления в обществе так или иначе пронизаны культурной спецификой, поэтому сторонник культурных исследований обязан изучать широкий круг событий, включая оперу, моду, мафиозное насилие, получение ученой степени, разговоры в пабе, посещение магазина, фильмы ужасов и т.д. Культура в символической форме отражает политическое и экономическое неравенство социальных групп (классы, расы, половозрастные категории). Группы, борясь против социального неравенства, выступают вместе с тем и против символизирующего его культурного неравенства. В основе теории культурных иссле-
дований лежит схема «культура — идеология — жизненный мир», подразумевающая, что культура придает осмысленность поведению людей, но сама детерминирована господствующей идеологией.
Культурную динамику правильнее рассматривать сквозь призму социальной борьбы. Господствующий класс общества устанавливает помимо идеологической также культурную гегемонию, которой различные группы населения сопротивляются, создавая свои субкультуры и контр культуры. Об этом свидетельствует исследование таких культурных движений, как битники, хиппи, студенческий андерграунд, панки и др. Социально-классовая гегемония перерастает в межполовую, поскольку в современном обществе
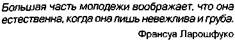
|
мужчины осуществляют культурное господство над женщинами.
Расцвет культурных исследований приходится на 1960-е гг., когда в центре внимания оказались марксизм, семиотика, феминизм, антропология, психоанализ, структурализм. Вскоре культурная динамика стала классической и вошла во многие учебники. В последнее время особенно актуальной стала и проблема молодежной субкультуры. Культурные исследования просуществовали недолго — не более двух десятилетий. Сегодня их концепция не пользуется прежней популярностью и увлечение подобными идеями в западной культурологии практически сошло на нет.

Исследование молодежной субкультуры методом участвующего наблюдения
Отечественные исследования. Активный интерес к молодежным субкультурам в России пришелся на конец 1980-х гг., когда на волне перестройки и гласности они стали настоящим «хитом» mass-media, буквально не сходили с экранов телевизоров. Уже в девяностые страсти поутихли и субкультуры развиваются своим чередом, практически не будоража общественное сознание. Первоначально молодежная субкультура выступала сферой интересов
по преимуществу социальных наук, криминологии, педагогики в связи с проблемой «трудных подростков».
Парадоксально, но рассвет социологии молодежи в СССР приходится на тот исторический период, когда молодежь как преобразующую одряхлевшее общество силу власти загнали в подполье либо вытравили из нее весь инновационный потенциал. Такими были 1970-е гг., получившие в литературе название периода застоя. При Брежневе от социологов требовалось выполнение социального заказа партии и доказательство морального превосходства советского общества, которому соответствует идейно преданная, образованная и воспитанная в духе морального кодекса строителя коммунизма советская молодежь. Подобный тезис постулировался в самом начале эмпирических исследований, а потому и само исследование обнаруживало в выборочной совокупности только эти и никакие другие черты. С реальным многообразием молодежной субкультуры, с модными веяниями и девиант-ными отклонениями разбирались органы власти, социологов туда не допускали. Потому и в книгах, статьях и очерках тех лет можно встретить причесанный образ молодого человека — с идеологической точки зрения вполне репрезентативный социальный тип, но совершенно не отвечающий свойствам генеральной совокупности. К примеру, первый круглый стол с представителями движения хиппи ведущий журнал «Социологические исследования» смог организовать только во времена горбачевской перестройки, а до того ни одного исследования, где хоть как-то отражались проблемы молодежных субкультур, на его страницах не появлялось. В конце 1970-х — начале 1980-х гг. мы начали изучать проблемы социализации новых поколений городских жителей и эффективность работы молодежных учреждений (клубов, кружков, школ, общественно-политических организаций), но ни о каких неформальных молодежных организациях речи не шло.
В начале эпохи гласности (1985—1986) сохранялись «застойные» стереотипы, газеты еще писали о социалистическом соревновании, деятельности ДНД и студенческих строительных бригад, об участии молодежи в возведении новых городов, а специалисты в области социологии труда — о превращении труда в первую жизненную потребность. Почти революционными выглядели тогда материалы о проблемах в МЖК72, трудностях на комсомольских стройках и противоречиях в управлении студенческими бригадами. Вовсю раскручивался хит тех лет — молодежь на строительстве БАМа. Центральной темой исследований был вопрос о социалистических идеалах молодого поколения и приверженности молодежи революционным традициям отцов.
Воспитание молодежи сводилось к усвоению господствующих в обществе норм и ценностей, идеологических постулатов дедов и отцов. Молодежная субкультура и неформальные молодежные движения рассматривались как формы девиантного поведения. Октябрятско-пионерские организации и комсомол были инструментами официальной партийной политики. В свое время В.И. Ленин назвал эти организации, наряду с профсоюзами, «приводными ремнями» партии. Эта формула прочно утвердилась в советской педагогике и политико-воспитательной работе.
72 В 1985 г. движение за строительство молодежных жилых комплексов (МЖК) силами самой молодежи отмечало свое 10-летие. Юбилею и была посвящена подборка материалов на страницах журнала «Социологические исследования» (1985. № 1).
Своеобразие отечественной традиции некоторым авторам видится в преувеличении структурных и умалении культурных факторов в развитии молодежи. Действительно, зародившаяся еще в советские времена тенденция все явления, процессы и события рассматривать непременно через призму классового подхода, привела к тому, что на первый план у наших социологов вышла молодежь как элемент социальной структуры общества, активнейший агент социальной мобильности (действительно, молодежь перемещается сверху вниз и по горизонтали общества как никто другой), наконец как резерв рабочего класса, мощный источник решения демографических проблем (опять же рождаемость у молодежи больше, чем у любого другого возраста), но отнюдь не как тема для
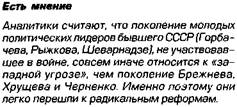
|
поколенческих культурных изменений и молодежной субкультуры.
Ярким примером служат проводившиеся в 1970-е гг. в Свердловске исследования Ф.Р. Филиппова и М.Н. Рут-кевича, изучавшие молодежную проблематику в связи с воспроизводством социальной структуры и учетом межпоколенной социальной мобильности. На них были ориентированы такие проекты, как «Высшая школа» (1973—1974) и международное компаративное исследование воздействия высшего образования на социальную структуру общества (1977-1978).
Так продолжалось практически до исхода 1980-х гг., пока во всю мощь не заговорили о себе неформальные молодежные организации и группировки, особенно казанские дворовые банды и люберецкие выездные бригады. Если западную общественность пришлось напугать студенческой революцией 1968 г. для того, чтобы она всерьез занялась молодежными контркультурами, то для советской общественности таким жупелом выступил всплеск молодежной преступности второй половины 1980-х гг. Только после выступлений журналистов, взбудораживших общественное мнение «криминогенными» публикациями о молодежных группировках, начался настоящий бум социологических исследований.
Теперь уже ученые осознали, что молодежь — это не просто преддверие взрослости, а молодежная субкультура — несколько подретушированный вариант взрослой культуры. У нее совершенно иные, нередко противоречивые, а то и парадоксальные траектории развития. Взрослых можно увлечь массовыми мероприятиями по месту жительства, привлечь в клуб по интересам или в художественную самодеятельность, построив по всей стране дворцы и клубы. Но молодежи это неинтересно. Она почему-то жмется по подъездам, подвалам, чердакам, частным квартирам и прочим непосещаемым взрослыми местам.
До начала 1980-х гг., отмечают специалисты73, молодежная культура не была предметом исследования со стороны официальной науки. В середине 1980-х гг. большинство исследователей рассматривало молодежную культуру только как разновидность девиантного поведения, криминогенную по своей природе. Этому способствовали публикации в прессе, посвященные
3 Волков Ю.Г. и др. Социология молодежи: Учеб. пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. Ростов н/Д., 2001. С. 18-24.
криминальным молодежным группировкам. Вскоре В. Ливанов, В. Левичева и Ф. Шереги74 (НИЦ ВКШ) стали изучать молодежные неформальные объединения, Н.В. Кофырин (Ленинградский университет) — неформальные молодежные группировки непосредственно на местах их «тусовок»75. Преступным молодежным группировкам были посвящены работы И. Сундие-ва76 (Академия МВД), Г. Забрянского (Правовая академия Министерства юстиции СССР) и журналиста Ю.П. Щекочихина77. Изучались также проблемы нравственной деградации армии (Б. Калачев78), наркомании и проституции среди молодежи, феномен рок-музыки (в Ленинграде — М. Илле и О. Сакмаров79, в Москве — Н. Саркитов80) с применением методов глубинного и включенного интервью.
Белорусские социологи И. Андреева и Л. Новикова81 изучали молодежные субкультуры крупных городов. Они пришли к выводу, что маргинальные субкультуры имеют в советских условиях особую социальную базу — «полугородскую» (мигрантскую) молодежь — и становятся способом включения в городскую культуру82. Подобное обстоятельство, по их мнению, отличает два типа общества, так как в западных городах молодежная субкультура формируется в среде расовых или национальных меньшинств.
Методы изучения неформальных организаций в 1990-х гг. разительно отличались от приемов исследования формальных организаций советской молодежи 1960—80-х гг. Поскольку субкультурные формирования — это чаще всего малые группы, закрытые сообщества криминального, полукриминального или асоциального характера, то формой изучения выступали неформализованное интервью, включенное и невключенное наблюдения, анализ прессы, методы глубинного и включенного интервью, прожективные вопросы. Куда проще было комсомольским активистам, организовывавшим многотысячные опросы по стандартной анкете с привлечением сотен добровольных помощников, опрашивавших респондентов прямо на рабочем месте или во время запланированного досуга.
С конца 1980-х гг. разделы по молодежной субкультуре выделяются в учебных пособиях. Так, в учебнике «Социология молодежи» З.В. Сикевич под молодежной субкультурой понимает «культуру молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов».
74 Каталог-справочник неформальных самодеятельных организаций и независимой прессы СССР /
Под ред. В.Ф. Левичевой. М., 1990; Неформальная волна / Под ред. В.Ф. Левичевой, В. Ливанова.
М., 1989.
75 Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследо
вания. 1991. № 1.
76 Сундиев И.Ю. Самодеятельные объединения молодежи // Социологические исследования. 1989. № 2.
77 Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим. М., 1987; Он же. По ком звонит колокольчик? // Социо
логические исследования. 1987. № 1.
78 Калачев Б.Ф. Наркотики в армии // Социологические исследования. 1989. № 4.
79 Илле М.Е., Сакмаров О.А. Рок-музыка: таланты и поклонники // Социологические исследования.
1989. № 5.
80 Саркитов Н.Д. От «хард-рока» к «хеви-металлу»: эффект оглупления // Социологические иссле
дования. 1987. № 4.
82 Андреева КН., Новикова Л.Г. Субкультурные доминанты нетрадиционных форм поведения молодежи // Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня, а завтра? / Под ред. В.В. Семеновой. М., 1988.
82 Там же.
Опираясь на идеи М. Мид, отечественные ученые В. Боровик, В. Добрынина, Л. Коган, В. Култыгин, В. Немировский, Е. Слуцкий, В. Харчева изучали молодежные субкультуры в связи с ценностной и мировоззренческой дифференциацией в молодежной среде, девиантное поведение, внешнюю атрибутику, досуг и неформальные молодежные объединения.
Сейчас хиппи, панками или байкерами интересуются только специалисты. Даже молодежь не уделяет им особого внимания. Так, по данным одного исследования83, 45% молодых респондентов ответили, что им безразличны любые молодежные течения, а 7,5% заявили, что вообще ничего не знают о них (табл. 28). Наибольшую индифферентность по отношению к молодежным субкультурам проявили молодые жители Башкортостана (48% безразличных плюс 10% несведущих).
Значительная часть респондентов выразила негативное отношение к молодежным субкультурам, посчитав их вредными для общества (17%). Чаще всего осуждение высказывают молодые владимирцы. Обратим внимание на то, что среди представителей старшего поколения негативное отношение к молодежным субкультурам преобладает над позитивным: вредными, разлагающими молодежь субкультурные молодежные объединения считают 39% респондентов старше 40 лет. Не видят в них ничего плохого 14% взрослых и лишь 4% находят субкультурные объединения полезными для молодежи. Среди молодежи доля сочувствующих поднимается до 39%. Таким образом, с возрастом интерес к молодежным субкультурам снижается и нарастает безразличие.
Таблица 28
Осведомленность молодежи о субкультурных течениях (в % к числу ответивших на вопрос)
| Субкультуры | Молодежь 15-30 лет | |||
| В среднем по выборке | Республика Башкортостан | Владимирская обл. | Новгородская обл. | |
| «Хиппи» | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 4,6 |
| «Панки» | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 3,3 |
| «Скинхеды (бритоголовые)» | 2,7 | 1,3 | 2,6 | 4,1 |
| «Байкеры» | 3,3 | 3,7 | 2,2 | 4,1 |
| «Рокеры» | 4,9 | 3,9 | 5,5 | 5,2 |
| Спортивные фанаты | 11,4 | 14,3 | 9,8 | 10,0 |
| «Рэперы» | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 4,3 |
| «Рейверы» | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| «Брейкеры» | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,8 |
| «Металлисты» | 2,3 | 1,5 | 2,6 | 2,8 |
| Считают, что все эти движения вредны для общества | 17,5 | 13,2 | 22,3 | 16,9 |
| Безразличны ко всем молодежным течениям | 45,2 | 48,4 | 45,7 | 41,4 |
| Ничего не знают об этих течениях | 7,5 | 10,4 | 4,8 | 7,4 |
| Ответили на вопрос (чел.) |
Источник: Потребность молодежи в самоорганизации (http://www.fesmos.ru). 3 Потребность молодежи в самоорганизации (http://www.fesmos.ru).
Б1
Интересно, что и поклонники субкультур обособляются или враждуют между собой. В результате аудитория каждой из них не превышает 2—3%. Самая широкая аудитория сегодня у спортивных фанатов (11%). Если в городе есть хоккейная либо футбольная команда, выступающая в высшем дивизионе, число фанатов растет. Спортивный фанатизм наименее идеологизирован, а если учесть, что нынешняя молодежь в большинстве своем равнодушна к общественной и политической жизни, то фан-клубы это как раз то, что ей больше всего по душе. Да и выразить свою агрессию, будучи не привлеченным к уголовной ответственности, в такой форме легко удается. В 1990—2000-е гг. спортивный вандализм и погромы приобрели по всему миру и в России в частности невиданные масштабы. При этом спортивные фанаты не симпатизируют представителям других субкультур. И это понятно: у спортивного фанатизма нет ни идейной, ни культурной составляющей.
В конце XX и начале XXI в. интересные исследования молодежных субкультур проводили Ю.Н. Давыдов, И.Б. Роднянская, З.В. Сикевич, Т.Б. Ще-панская, В.Ф. Пирожков, А.Н. Тарасов, Д. Петров, Е.Л. Омельченко и др.84 Особо стоит выделить деятельность заведующего отделом ювенологии Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» А.Н. Тарасова, автора 490 публикаций по проблемам молодежи и образования, конфликтологии, политическому радикализму в России и за рубежом, массовым общественным движениям, массовой культуры, межкультурным и межцивилизационным противоречиям, компаративистским исследованиям. Ему удалось увидеть мир молодежных субкультур изнутри, часто изучавшему их, что называется, методом участвующего наблюдения. В 1975 г. он был арестован по делу Неокоммунистической партии Советского Союза (НКПСС), после предварительного заключения и годичного пребывания в спецпсихбольнице освобожден, был чертежником, лаборантом в проектном институте, сторожем на Ваганьковском кладбище, машинистом, слесарем по ремонту котельного оборудования, библиотекарем, редактором, фельдшером, оператором газовой котельной, бухгалтером, осветителем в театре, научным сотрудником, преподавателем вуза, консультантом в Миннауки и т.д. С 1984 г. выступал (под псевдонимом) в зарубежной прессе и в самиздате. Печатался, помимо России, в США, Канаде, Великобритании, Франции, Греции, Венгрии, Индии и т.д. Таким исследовательским и жизненным опытом в избранной тематике мало кто обладает не только в нашей стране, но и за рубежом.
В ходе многолетнего включенного наблюдения собирала эмпирический материал по истории бытового инакомыслия молодежи второй половины 1980-х гг. питерский этнограф и социолог Т.Б. Щепанская85. Когда задумы-
84 Субкультурные объединения молодежи: критический анализ. М., 1987; Щепанская Т.Б. Символи
ка молодежной субкультуры: Опыт этнографического исследования системы. 1986—1989 гг. СПб.,
1993; Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры (Инфантилизм как тип миро
восприятия и социальная болезнь). М., 1980; Молодежный экстремизм / Под ред. А.А. Козлова.
СПб., 1996; Сикевич З.В. Молодежная культура: за и против. Л., 1990; Петров Д. Молодежные суб
культуры. Саратов, 1996; Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга (социологи
ческий и антропологический анализ). СПб., 1999; Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и суб
культуры. М., 2000; Пирожков В.Ф. Криминальная субкультура: Психологическая интерпретация
функций, содержания, атрибутики // Психологический журнал. 1994. Т. 15. № 2.
85 Щепанская Т.Б. Указ соч.
валась ее фундаментальная работа по субкультуре хиппи, она сама была в возрасте, близком к молодежи. В сообщество молодежного андерграунда она была принята как «своя» и наблюдала ее одновременно и изнутри, и извне, вооруженная этнографическим образованием и современными социологическими идеями. Это очень важно, потому что среда, в которую она с легкостью проникала, была закрыта для «чужаков». На этапе сбора материала она действовала по законам этнографического поля: выбирала одно конкретное сообщество и наблюдала его обычаи, обряды и традиции. Большая часть информации была получена автором непосредственно в системе методами опросов и включенного наблюдения. Записывался городской молодежный фольклор (анекдоты, поговорки, байки, прозвища, песни). Полезный материал дала периодика 1986—1989 гг. К тому же периоду относятся записи бесед с пиплами. Ценным источником послужили граффити, оставленные пиплами на стенах нескольких домов в Москве и Ленинграде, где обычно собирались системные тусовки. В Москве это Булгаковский дом на Садовой улице, в Ленинграде — Ротонда, которую еще называют Центром мироздания. Применяя методы включенного наблюдения, непосредственного участия в разного рода проявлениях тусовочной жизни, интервью, анализа документов, Т.Б. Щепанская получила уникальный эмпирический материал, который уже никогда не удастся повторить. Она описывает мир хип-повской и постхипповской тусовки как часть социальной структуры советского общества, ее символику, стиль и образ жизни.
Совсем иначе строилась исследовательская работа Е.Л. Омельченко, проект которой задуман и осуществлен в рамках международного сотрудничества Европейской программы Tempus/TACIS. Выражая свою признательность д-ру Хилари Пилкингтон, проф. С. Кларку, д-ру К. Райт, д-ру М. Ни-ави — его коллегам по факультету социологии (Уорикский университет), проф. Л. Бовоне (Миланский католический университет), проф. X. Девису (Кентский университет), д-ру Т. Флету (Билефельдский университет), проф. С. Фрису (Университет Глазго), проф. К. Гриффин (Бирмингемский университет), проф. А. Физаклеа (Лейстерский университет), автор фундаментальной книги86 показывает, с каких позиций и в каких традициях должна сегодня изучаться молодежная субкультура. Видимо, ушла в прошлое эпоха диссидентов, включенных наблюдений в молодежный андерграунд конца 1980-х и середины 1990-х гг., когда собирались уникальные данные, имеющие сугубо национальную специфику, и наступает время для широкой международной интеграции, изучения того, каким образом российская молодежь встраивается в глобальную цивилизацию, воспринимает западный образ жизни, включается в общеевропейские образовательные программы и обмен культурными ценностями. Именно так формулируется одна из глав книги Е.Л. Омельченко — «Глобализации и молодежная культура».
Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000.
ПОДРОСТКОВЫЙ МИР
Сколько неразрешимых проблем накапливается в повседневной жизни подростка! Кто-то не захотел сесть рядом с ним за партой. Его не пригласили на коллективное мероприятие, которое проводилось школьными товарищами. Над ним посмеялись знакомые ребята. Утром, проснувшись, он обнаружил у себя на лице новые прыщи. А вчера получил пощечину от девочки, о которой много думал, считая, что он ей нравится так же, как и она ему.
Подростковый период — это отрезок жизни между детством и зрелостью. В античности и средневековье он был довольно коротким, а сейчас под воздействием научно-технического прогресса и удлинения сроков обучения (после школы сразу вуз) он постоянно растягивается. Ученые сбились с толку, с какого по какой возраст его определять. Может быть с 13 до 7 Б лет? Или еще как-то?
|
|
|


