 |
Коммуникация в мире животных и человеческий язык
|
|
|
|
В применении к животному миру понятие языка используется только из-за смешения терминов. Как известно, до сих пор не удалось установить, имеют ли какие-нибудь животные хотя бы в зачаточной форме такой способ выражения, который обладал бы характерными свойствами человеческого языка и выполнял бы аналогичные функции. Все серьезные наблюдения, проводившиеся с этой целью над сообществами животных, не имели успеха; потерпели неудачу и все попытки посредством различной техники вызвать к действию или зафиксировать в какой бы то ни было форме язык, который можно было бы уподобить человеческому. Вряд ли на основе поведения животных, испускающих различные крики, можно заключить, будто при этом они передают «речевые» сообщения. По-видимому, даже у высших животных отсутствуют основные условия собственно языковой коммуникации.
Иначе обстоит дело у пчел, во всяком случае, здесь этот вопрос отныне мог бы быть поставлен. Все говорит за то —и этот факт замечен очень давно,— что у пчел есть средство общения между собой. Изумительная организация их колоний, специализация и согласованность действий, их способность коллективно реагировать в непредвиденных ситуациях заставляют предположить, что они могут обмениваться подлинными сообщениями. Особенное внимание исследователей привлек способ, каким пчелы узнают о том, что одна из них нашла источник пищи. Пчела-сборщица,
4 Бенвсшзст
 |
 обнаружив, например, во время полета сладкий сироп, которым ее приманивают, тотчас насыщается им. Пока она кормится, экспериментатор помечает ее. Затем она возвращается в свой улей. Спустя некоторое время можно наблюдать, как на то же место прилетает группа пчел из этого улья, среди которых помеченной пчелы нет. Она, по-видимому, известила своих товарок. Причем они были информированы с большой точностью, поскольку без проводника добираются до места, всегда находящегося за пределами видимости улья, а часто и на большом от него расстоянии. В определении местонахождения не бывает ни ошибок, ни колебаний: если сборщица выбрала один цветок среди прочих, которые равным образом могли бы ее привлечь, пчелы, вылетающие после ее возвращения, направляются именно на выбранный ею цветок, не обращая внимания на другие. Очевидно, пчела-разведчица указала своим товаркам место, откуда она прилетела. Но каким способом?
обнаружив, например, во время полета сладкий сироп, которым ее приманивают, тотчас насыщается им. Пока она кормится, экспериментатор помечает ее. Затем она возвращается в свой улей. Спустя некоторое время можно наблюдать, как на то же место прилетает группа пчел из этого улья, среди которых помеченной пчелы нет. Она, по-видимому, известила своих товарок. Причем они были информированы с большой точностью, поскольку без проводника добираются до места, всегда находящегося за пределами видимости улья, а часто и на большом от него расстоянии. В определении местонахождения не бывает ни ошибок, ни колебаний: если сборщица выбрала один цветок среди прочих, которые равным образом могли бы ее привлечь, пчелы, вылетающие после ее возвращения, направляются именно на выбранный ею цветок, не обращая внимания на другие. Очевидно, пчела-разведчица указала своим товаркам место, откуда она прилетела. Но каким способом?
|
|
|
Этот загадочный вопрос долгое время звучал вызовом для исследователей. Ответом мы обязаны Карлу фон Фришу (профессору зоологии Мюнхенского университета), который своими опытами, проводившимися в течение тридцати лет, заложил основы решения этой проблемы. Его исследования раскрыли процесс коммуникации у пчел. Использовав улей с прозрачными стенками, он наблюдал за поведением пчелы, возвратившейся после обнаружения взятка. Ее тотчас окружают находящиеся в большом возбуждении товарки, и, протягивая к ней свои хоботки, они получают пыльцу, которой она нагружена, или впитывают отрыгиваемый ею нектар. Затем она начинает исполнять танцы, а другие пчелы следуют за ней. Это и есть главный момент процесса и сам акт коммуникации. В зависимости от обстоятельств пчела исполняет два разных танца. Один танец состоит в том, что она последовательно описывает горизонтальные круги, сначала справа налево, затем слева направо. Другой, сопровождаемый непрерывным вилянием брюшка (wagging-dance), изображает почти восьмерку: пчела бежит прямо, затем описывает полный круг влево, опять бежит прямо, вновь начинает полный круг, теперь направо, и так несколько раз кряду. После танцев одна или несколько пчел покидают улей и устремляются прямо к источнику корма, который посетила первая пчела, и, насытившись там, возвращаются в улей, где в свою очередь предаются тем же танцам, опять призывая к новым вылетам; так одни прилетают, другие улетают, и через некоторое время уже сотни пчел спешат к тому месту, где сборщица нашла корм. Следовательно, круговой танец и танец восьмеркой похожи на настоящие сообщения, с помощью которых улей извещается об открытии. Оставалось выяснить разницу между этими двумя танцами. К. фон Фриш думал, что она связана с природой взятка: круговой танец сообщает о нектаре, танец восьмеркой — о пыльце. Эти факты с их интерпретацией, изложенные в 1923 г,, ныне общеизвестны и уже
|
|
|
стали предметом популярных изложений *. Понятно, что они вызывали живой интерес. Но даже когда эти факты проверены и объяснены, они не дают оснований говорить о подлинном языке.
Эти взгляды теперь совершенно изменились благодаря опытам, которые К., фон Фриш продолжал потом, расширяя и исправляя свои первые наблюдения. Об этих опытах он сообщил в специальных публикациях в 1948 г. и очень четко резюмировал их в 1950 г. в небольшом по объему сборнике лекций, прочитанных в Соединенных Штатах 2. После тысяч опытов, требовавших поистине поразительного терпения и изобретательности, ему удалось определить значение танцев. Фундаментально новое открытие состоит в том, что танцы относятся не к природе взятка, как он думал сначала, а к расстоянию от улья до источника корма. Танец по кругу говорит о том, что местоположение корма следует искать на небольшом удалении от улья, приблизительно в районе ста метров в окружности. В этом случае пчелы вылетают и рассыпаются вокруг улья, пока не найдут приманки. Другой танец, который сборщица исполняет, виляя и описывая восьмерки (wagging-dance), указывает, что место взятка расположено на расстоянии от ста метров до десяти километров. В этом сообщении содержится два различных указания: одно собственно о расстоянии, другое— о направлении. Информация о расстоянии заключается в количестве фигур, выполненных за определенное время; расстояние находится всегда в обратной зависимости к их частоте. Например, за пятнадцать секунд пчела описывает девять-десять полных восьмерок, если дистанция порядка ста метров, семь восьмерок—при дистанции 200 метров, четыре с половиной — при одном километре и только две восьмерки—при шести километрах. Чем больше расстояние, тем медленнее танец. Что касается направления, в котором надо искать взяток, то оно обозначается осью «восьмерки» по отношению к солнцу; эта ось, соответственно ее отклонение влево или вправо, указывает угол, который образует с солнцем место приманки. А пчелы благодаря необыкновенной чувствительности к поляризованному свету способны ориентироваться даже в пасмурную погоду. Практически оценка дистанции несколько колеблется от одной пчелы к другой или от улья к улью, но не бывает колебаний в выборе того или другого танца. Эти результаты добыты приблизи-' тельно в четырех тысячах опытов, которые в Европе и Соединенных
|
|
|
 1 Так, Морис Мати (Maurice Ma this, Le Peuple des abeilles, стр. 70) пишет:
1 Так, Морис Мати (Maurice Ma this, Le Peuple des abeilles, стр. 70) пишет:
«Доктор К. фон Фриш объяснил... поведение пчелы, возвратившейся в улей после
того, как она обнаружила приманку. В зависимости от природы корма — мед или
пыльца — приманенная пчела будет исполнять на сотах поистине показательный
танец, вертясь по кругу, если она нашла сахаристое вещество, или описывая вось
мерки, если взятком была пыльца».
2 Karl von Frisch, Bees, their Vision, Chemical Senses and Language, Cornell
University Press. Ithaca, N. Y., 1950.
4* 09

|

 Штатах другие, первоначально скептически настроенные зоологи повторили и в конечном счете подтвердили 3. Таким образом, теперь точно установлено, что именно танец в двух его разновидностях служит для пчел средством сообщить другим особям в улье о своей находке и направить их к ней с помощью указаний на расстояние и направление. Кроме того, воспринимая запах пчелы-сборщицы или поглощая принесенный ею нектар, пчелы узнают и о природе взятка. Они в свою очередь отправляются в полет и уверенно добираются до места. Следовательно, по типу и ритму танца наблюдатель может предвидеть поведение улья и проверять переданные указания.
Штатах другие, первоначально скептически настроенные зоологи повторили и в конечном счете подтвердили 3. Таким образом, теперь точно установлено, что именно танец в двух его разновидностях служит для пчел средством сообщить другим особям в улье о своей находке и направить их к ней с помощью указаний на расстояние и направление. Кроме того, воспринимая запах пчелы-сборщицы или поглощая принесенный ею нектар, пчелы узнают и о природе взятка. Они в свою очередь отправляются в полет и уверенно добираются до места. Следовательно, по типу и ритму танца наблюдатель может предвидеть поведение улья и проверять переданные указания.
|
|
|
Нет нужды доказывать важность описанных открытий для изучения психологии животных. Мы хотели бы только выделить здесь один менее очевидный аспект этой проблемы, которого К. фон Фриш, поглощенный задачей объективного описания своих опытов, не затрагивал. Благодаря указанному открытию мы впервые в состоянии с известной точностью определить способ коммуникации в колонии насекомых и впервые представить себе, как функционирует «язык» животных. Полезно, быть может, вкратце отметить, в чем эта коммуникация носит языковой характер, а в чем — нет и как эти наблюдения над пчелами помогают путем установления сходства и различий определить человеческий язык.
Пчелы оказываются способны передавать и принимать настоящие сообщения, содержащие многие данные. Они могут фиксировать место и расстояние; могут хранить их в «памяти»; могут сообщать о них, символизируя их путем различных соматических действий. Замечательно прежде всего то, что они проявляют способность к символизации: ведь между их поведением и сведениями, которые оно передает, имеется «условное» («конвенциональное») соответствие. Это отношение воспринимается другими пчелами в тех же формах, в которых передано, и становится стимулом их действий. Здесь мы находим у пчел те самые условия, без каких невозможен ни один язык: способность формировать и интерпретировать «знак», отсылающий к определенной «реальности», запоминание опыта и способность его расчленять.
В передаваемом пчелами сообщении содержится три установленных до сегодняшнего дня параметра: существование источника пищи, расстояние до него и направление к нему. Эти элементы можно упорядочить несколько иначе. Танец по кругу указывает просто на наличие взятка, имплицитно включая и то, что он находится на небольшом расстоянии. Он основан на механическом принципе «все или ничего». Другой танец является подлинно формой сообщения; в этом случае двумя внешне выраженными параметрами (расстоянием и направлением) имплицитно задается третий —
 3 См. предисловие Дональда Р, Гриффина к названной книге К- фон Фриша, стр. VII.
3 См. предисловие Дональда Р, Гриффина к названной книге К- фон Фриша, стр. VII.
существование пищи. Здесь мы видим несколько черт сходства с человеческим языком. Во-первых, этим актам, хотя и в зачаточной форме, присуща подлинная символика, с помощью которой объективные данные транспонируются в формализованные телодвижения, состоящие из переменных элементов и постоянного «значения». Во-вторых, сама ситуация и функция здесь типично языковые, в том смысле, что данная система принята внутри данной общности особей и каждый член общности способен ее понимать или применять в одних и тех же формах.
|
|
|
Однако существенны и различия, они-то и помогают осознать характерные признаки, принадлежащие только человеческому языку. Коренное различие заключается прежде всего в том, что сообщение у пчел целиком осуществляется в танце, без вмешательства «голосового» аппарата, тогда как языка без голоса не бывает. Отсюда и другое различие, физического порядка. Коммуникация у пчел, будучи не звуковой, а двигательной, осуществляется обязательно в условиях, обеспечивающих зрительное восприятие, то есть при дневном освещении; она не может протекать в темноте. Человеческий язык не знает такого ограничения.
Фундаментальное различие проявляется также в ситуации, при которой происходит коммуникация. Сообщение пчелы не вызывает другого ответа от окружающих особей, кроме определенного образа действий, а это не ответ. Значит, необходимого условия человеческого языка, диалога, у пчелы не существует. Мы разговариваем с собеседниками, которые нам отвечают,— такова человеческая действительность. Отсутствие диалога выявляет новый контраст. В силу отсутствия диалога сообщение у пчел соотносится лишь с некоторым фактом объективной действительности. У них не может быть сообщения о языке, во-первых, уже потому, что у пчел нет ответа — языковой реакции на языковое действие, и, кроме того, известие одной пчелы не может быть воспроизведено другой, которая не видела бы сама того, о чем сообщает первая. Не было замечено, например, чтобы какая-нибудь пчела передала в другой улей сообщение, полученное в своем, то есть чего-то вроде передачи эстафеты. Мы видим, таким образом, отличие от человеческого языка, в котором указания на объективный опыт и реакции на языковой стимул перемежаются в диалоге свободно и в неограниченном количестве. Пчелы не строят одного сообщения на основе другого. Каждая из пчел, завербованных танцем сборщицы, вылетает и отправляется кормиться к указанному месту, а возвратившись, воспроизводит ту же самую информацию не на основе известия первой пчелы, а на основе только что установленной ею на опыте действительности. Характерное же свойство языка в том, чтобы обеспечить субститут опыта, который без конца можно передавать во времени и пространстве; это и есть особенность нашей символической деятельности и основа языковой традиции,
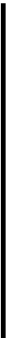 |

|
| форма языка, которую до сих пор удалось открыть у животных, свойствен насекомым, живущим в сообществах. Значит, и общество также есть непременное условие существования языка. Открытия К. фон Фриша важны для нас не только новыми сведениями о мире насекомых, но и тем, что косвенно проливают свет на условия существования человеческого языка и лежащего в его основе символизма. Возможно, что прогресс исследований приведет нас к еще более глубокому пониманию средств и форм этого вида коммуникации, но уже одно то, что установлен факт его существования, его природа и то, как он функционирует, поможет нам лучше понять, где начинается язык и проходит грань, отделяющая человека от животного мира 4. |
Если мы обратимся теперь к содержанию сообщения, то легко заметим, что оно всегда связано с одним-единственным фактом — пищей, а единственно допускаемые вариации относятся к пространственным данным. Бросается в глаза контраст с неограниченностью содержания человеческого языка. Кроме того, действие, являющееся у пчел формой сообщения, представляет собой особый тип символизма, состоящий в копировании объективной ситуации, причем той единственной ситуации, которая дает начало сообщению без каких-либо вариаций или преобразований. В человеческом же языке символ, в общем случае, не является слепком с данных нашего опыта — в том смысле, что между явлением действительности и его языковой формой нет обязательного подобия. В этой связи можно было бы отметить еще многие отличительные черты свойственного человеку символизма, хотя природа и функционирование его еще недостаточно изучены. Но разница и так очевидна.
И последним свойством коммуникация пчел резко противопоставлена человеческим языкам: их сообщение нельзя расчленить. В нем можно видеть только общее содержание, и единственная дифференциация связана с пространственным положением объекта, о котором сообщается. Невозможно разложить содержание высказывания на составляющие его элементы, на «морфемы», поставив в соответствие каждую из этих морфем какому-то одному элементу выражения. Человеческий язык характеризуется именно этим. Каждое высказывание в нем делится на элементы, которые допускают свободное комбинирование по определенным правилам, так что относительно небольшое количество морфем допускает значительное число комбинаций; это и порождает разнообразие человеческого языка, с помощью которого можно говорить обо всем. Более углубленный анализ языка показывает, что эти элементы значения — морфемы—в свою очередь разлагаются на фонемы, единицы артикуляции, не обладающие значением, число которых еще меньше и избирательные и различительные комбинации которых образуют значащие единицы. Эти «пустые» фонемы, организованные в системы, составляют фундамент всякого языка. Очевидно, что в «языке» пчел нельзя выделить подобных составляющих; он не членится на различительные элементы, поддающиеся идентификации.
Совокупность этих наблюдений выявляет существенную разницу между способами коммуникации у пчел и нашим языком. Это различие резюмируется термином, который, как нам кажется, лучше всего подходит для определения вида коммуникации, используемого пчелами; это не язык, а сигнальный код. Отсюда и проистекают все его свойства: постоянство содержания, неизменяемость сообщения, отнесенность к одной-единственной ситуации, неразложимость сообщения, однонаправленность его передачи. Тем не менее весьма знаменателен тот факт, что этот код, единственная
4 [1965]. Более полный обзор последних исследований о коммуникации животных, и в частности о языке пчел, см. в статье: Т, A. Sebeok, «Science», 1965, стр. 1006 и ел.
 | |||
 | |||
 ГЛАВА VIII КАТЕГОРИИ МЫСЛИ И КАТЕГОРИИ ЯЗЫКА
ГЛАВА VIII КАТЕГОРИИ МЫСЛИ И КАТЕГОРИИ ЯЗЫКА
Применения языка, на котором мы говорим, столь многообразны, что одно их перечисление вылилось бы в обширный список всех сфер деятельности, к каким только может быть причастен человеческий разум. Однако при всем их разнообразии эти применения имеют два общих свойства. Одно заключается в том, что сам факт языка при этом остается, как правило, неосознанным; за исключением случая собственно лингвистических исследований, мы очень слабо отдаем себе отчет о действиях, выполняемых нами в процессе говорения. Другое свойство заключается в том, что мыслительные операции независимо от того, носят ли они абстрактный или конкретный характер, всегда получают выражение в языке. Мы можем сказать все что угодно, и сказать это так, как нам хочется. Отсюда и проистекает то широко распространенное и так же неосознанное, как и все, что связано с языком, убеждение, будто процесс мышления и речь — это два различных в самой основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли. Такова проблема, которую мы рассмотрим здесь в общих чертах, главным образом с целью разобраться в некоторых неясностях, связанных с самой природой языка.
Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи «того, что мы хотим сказать». Однако явление, которое мы называем «то, что мы хотим сказать», или «то, что у нас на уме», или «наша мысль», или каким-нибудь другим именем,— это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам «намерение» или «психическая структура», и т, п. Это содержание
приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке, который как бы служит формой для отливки любого возможного выражения; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним. Язык же представляет собой систему и единое целое. Он организуется как упорядоченный набор различимых и служащих различению «знаков», которые обладают свойством разлагаться на единицы низшего порядка и соединяться в единицы более сложные. Эта большая структура, включающая в себя меньшие структуры нескольких уровней, и придает форму содержанию мысли. Чтобы это содержание могло быть передано, оно должно быть распределено между морфемами определенных типов, расположенными в определенном порядке, и т. д. Короче, это содержание должно пройти через язык, обретя в нем определенные рамки. В противном случае мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как «содержание», отличное от той формы, которую придает ей язык. Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без предвзятости проанализировать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смысла.
Однако это всего-навсего констатация фактов. Установив, что мышление и язык взаимно связаны и взаимообусловлены, мы еще не отвечаем на вопрос, как они связаны и почему следует считать, что одно из этих понятий с необходимостью предполагает другое. Между мыслью, которая может материализоваться только в языке, и языком, у которого нет иной функции, как «означать», нужно выявить специфическую связь, ибо очевидно, что их отношения не симметричны. Говорить в этом случае о содержащем и содержимом — значит упрощать картину. Таким представлением не следует злоупотреблять. Строго говоря, мысль не является материалом, которому язык придает форму, поскольку ни в один из моментов это «содержащее» нельзя вообразить лишенным своего «содержимого» или «содержимое» независимым от своего «содержащего».
Итак, проблема принимает следующий вид. Целиком признавая, что мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализованной в языке, следует поставить вопрос: есть ли у нас основания признать за мышлением какие-либо особые свойства, которые были бы присущи только ему и которые ничем не были бы обязаны языковому выражению? Мы можем описать язык ради него самого. Точно так же надо было бы добираться и непосредственно до мышления. Если бы можно было определить мысль пере-
 |
 числением исключительно ей присущих признаков, мы тотчас увидели бы, как она соединяется с языком и какова природа отношений между ними.
числением исключительно ей присущих признаков, мы тотчас увидели бы, как она соединяется с языком и какова природа отношений между ними.
Представляется удобным приступить к решению проблемы исходя из «категорий», играющих посредствующую роль между языком и мышлением. Они предстают не в одном и том же виде в зависимости от того, выступают ли они как категории мышления или как категории языка. Само это расхождение уже может пролить свет на сущность и тех и других. Например, мы сразу отмечаем, что мышление может свободно уточнять свои категории, вводить новые, тогда как категории языка, будучи принадлежностью системы, которую получает готовой и сохраняет каждый носитель языка, не могут быть изменены по произволу говорящего. Мы видим и другое различие, заключающееся в том, что мышление стремится устанавливать категории универсальные, языковые же категории всегда являются категориями отдельного языка. Все это на первый взгляд как будто подтверждает положение о примате мышления над языком и его независимости от языка.
Однако мы не можем и далее, подобно многим авторам, рассматривать эту проблему в столь общей форме. Мы должны обратиться к конкретной истории и анализировать вполне определенные языковые и мыслительные категории. Только при этом условии нам удастся избежать субъективных точек зрения и умозрительных решений. К счастью, мы располагаем как будто специально приготовленными для нашего анализа данными, объективно обработанными и представленными в хорошо известной системе: это категории Аристотеля. Мы позволим себе, не вдаваясь в специально философскую сторону вопроса, рассмотреть эти категории просто как перечень свойств, которые греческий мыслитель считал потенциальными предикатами любого объекта и, следовательно, рассматривал как набор априорных понятий, организующих, по его мнению, опыт. Для наших целей этот источник представляет огромную ценность.
Напомним сначала основной текст, содержащий самый полный перечень этих свойств, числом десять («Категории», гл. IV 1):
«Каждое из выражений, не входящих в какую-нибудь комбинацию, означает: или субстанцию; или сколько; или какой; или в каком отношении; или где; или когда; или в каком положении; или в каком состоянии; или делать; или подвергаться действию. Обычно «субстанция» — это, например, «человек», «лошадь»; «сколько» — например, «два локтя», «три локтя»; «какой» — например, «белый», «образованный» («сведущий в грамматике»); «в каком отношении» — например, «вдвое», «вполовину», «больше»; «где» — например, «в Ликее», «на площади»; «когда» — например, «вчера»,
 1 Мы сочли излишним воспроизводить оригинальный текст, поскольку все греческие термины приводятся ниже. Мы дословно перевели этот отрывок, чтобы передать его общее содержание, до того как будет сделан подробный анализ.
1 Мы сочли излишним воспроизводить оригинальный текст, поскольку все греческие термины приводятся ниже. Мы дословно перевели этот отрывок, чтобы передать его общее содержание, до того как будет сделан подробный анализ.
«в прошлом году»; «в каком положении» — например, «лежит», «сидит»; «в каком состоянии» — например, «обут», «вооружен»; «делать» — например, «режет», «жжет»; «подвергаться действию» —• например, «разрезается», «сжигается».
Таким образом, Аристотель выделяет совокупность предикатов, которые можно высказать о бытии, и стремится определить логический статус каждого из них. Однако нам кажется — и мы попытаемся это показать,— что такие типы являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит. Достаточно обратить внимание на именование категорий и иллюстрирующие их примеры — такая интерпретация, до сих пор не высказывавшаяся в явной форме, подтверждается без дальнейших комментариев. Перейдем к последовательному рассмотрению этих десяти типов.
Здесь неважно, переводить ли ooaia как «субстанция» или как «сущность». Поскольку эта категория на вопрос «что?» отвечает: «человек» или «лошадь», она представляет языковой класс имен, указывающих на предметы, каковы бы ни были эти последние — понятия или существа. Ниже мы возвратимся к термину oocrta, чтобы обозначить этот предикат.
Два следующих термина, noaov и noiov, составляют пару. Они относятся к свойству «с-кольк-ий», откуда абстрактное лоаотцс, «колич-ество», и к свойству «как-ов», откуда абстрактное жнбтпс; «кач-ество». Первое из них имеет в виду не собственно «число», являющееся лишь одной из разновидностей noaov, а в более общем смысле все, что может иметь меру; таким образом, в теории различаются «количества» дискретные, такие, как число или язык, и «количества» непрерывные, такие, как прямая линия, или время, или пространство. Категория xtoiov охватывает «кач-ество» целиком, не разделяя его на виды. Что касается следующие трех терминов, itpog Ti, яоЗ, лоте, то они однозначно выражают «отношение», «место» и «время».
Остановимся на природе и характере объединения этих шести категорий. Мы полагаем, что эти предикаты соответствуют вовсе не свойствам, открываемым в вещах, а классификации, заложенной в самом языке. Понятие ouoia указывает на класс существительных. Взятым вместе понятиям noaov и noiov соответствует не просто класс прилагательных вообще, но специально два типа прилагательных, которые в греческом языке тесно объединены. Еще до пробуждения философской мысли, начиная с первых текстов в греческом языке соединялись или противопоставлялись оба типа прилагательных, ябот и ясжн, и коррелятивные с ними формы остод и olog, а также тбаод и Tolog 2. Оба типа образования, произ-
 2 Здесь мы не принимаем в расчет разницу в ударении между рядом относительных и рядом вопросительных местоимений, это факт второстепенный.
2 Здесь мы не принимаем в расчет разницу в ударении между рядом относительных и рядом вопросительных местоимений, это факт второстепенный.
 | |||
 | |||
 водные от местоименных корней, были широко распространены в греческом языке, причем второй из них был продуктивным: помимо olog, noTog, toTog, мы имеем в этом ряду еще и dMioTog, 6ficnog. Значит, основа выделения двух этих предикатов заложена уже в системе языковых форм. Если мы перейдем теперь к npog тл, то и в этом классе под категорией «отношение» обнаружим еще одну фундаментальную особенность греческих прилагательных: свойство образовывать сравнительную степень (как, например, \ie~it,ov, приведенную в качестве примера в другом месте), являющуюся «отношением» по функции. Два других примера, 6ijrA,acnov, гциаъ, указывают на «отношение» иным способом: само понятие «вдвое» или «вполовину» является понятием об отношении уже по определению, тогда как в случае [^eT£ov на «отношение» указывает форма. Что касается яоо «где» и лоте «когда», то они включают соответственно классы пространственных и временных обозначений, причем понятия в этом случае отражают характер соответствующих наименований в греческом языке: противопоставление слов яоЗ и лот! поддерживается не только параллельной оппозицией их производных, представленной в оо 8те, той тбте,—■ они составляют часть целого класса, в который входят другие наречия (типа sy0sg, nipvow) или падежные обороты с локативом (как ev Auxeiu), ev ауора «в Ликее, на площади»). Следовательно, порядок, выделение этих категорий и их группировка именно в таком виде не лишены оснований. Все шесть первых категорий относятся к именным фермам. Таким образом, основания для их объединения лежат в особенностях греческой морфологии.
водные от местоименных корней, были широко распространены в греческом языке, причем второй из них был продуктивным: помимо olog, noTog, toTog, мы имеем в этом ряду еще и dMioTog, 6ficnog. Значит, основа выделения двух этих предикатов заложена уже в системе языковых форм. Если мы перейдем теперь к npog тл, то и в этом классе под категорией «отношение» обнаружим еще одну фундаментальную особенность греческих прилагательных: свойство образовывать сравнительную степень (как, например, \ie~it,ov, приведенную в качестве примера в другом месте), являющуюся «отношением» по функции. Два других примера, 6ijrA,acnov, гциаъ, указывают на «отношение» иным способом: само понятие «вдвое» или «вполовину» является понятием об отношении уже по определению, тогда как в случае [^eT£ov на «отношение» указывает форма. Что касается яоо «где» и лоте «когда», то они включают соответственно классы пространственных и временных обозначений, причем понятия в этом случае отражают характер соответствующих наименований в греческом языке: противопоставление слов яоЗ и лот! поддерживается не только параллельной оппозицией их производных, представленной в оо 8те, той тбте,—■ они составляют часть целого класса, в который входят другие наречия (типа sy0sg, nipvow) или падежные обороты с локативом (как ev Auxeiu), ev ауора «в Ликее, на площади»). Следовательно, порядок, выделение этих категорий и их группировка именно в таком виде не лишены оснований. Все шесть первых категорий относятся к именным фермам. Таким образом, основания для их объединения лежат в особенностях греческой морфологии.
С той же точки зрения следующие четыре категории также образуют единство: все они глагольные категории. Для нас они особенно интересны тем, что, как кажется, природа двух из них была определена неточно.
Две последние с первого взгляда ясны: mneTv «делать», с примерами тгц/vei, xaiei «режет, жжет», и naa%ei,v «испытывать воздействие, терпеть, страдать», с примерами xifj/vETai, xaiexai «разрезается, сжигается» («его режут, его жгут»), представляют категории актива и пассива, и сами примеры в данном случае выбраны таким образом, чтобы подчеркнуть языковое противопоставление: эта морфологическая оппозиция двух «залогов», существующая для большинства греческих глаголов, и выступает в виде полярных понятий noielv и nacr%eiv.
Но что подразумевается под двумя первыми категориями, хеТобси и I%eiv? Даже перевод их неоднозначен: некоторые приравнивают I%eiv к «иметь». Ну а какой интерес может представлять такая категория, как «положение» (xeiaBai)? Что это, предикат столь же общий, как «актив» или «пассив», или хотя бы предикат одинаковой с ними природы? А что сказать об I%eiv, иллюстрированном примерами «обут; вооружен»? Комментаторы Аристотеля склонны считать эти категории эпизодическими, полагая, что гре-
ческий философ сформулировал их лишь затем, чтобы исчерпать применимые к человеку предикаты. «Аристотель,— говорит Гом-перц,— воображает человека, стоящего перед ним, например, в Ликее, и последовательно анализирует вопросы, которые можно задать применительно к нему, и ответы на них. Все предикаты, которые могут быть связаны с этим лицом, попадают в тот или иной из десяти основных классов, начиная с главного вопроса: «Каков объект, наблюдаемый здесь?» ■— и вплоть до вопросов второстепенных, относящихся только к внешнему виду, таких, как: «Во что обут этот человек и чем вооружен?»... Это перечисление задумано так, чтобы охватить максимум предикатов, которые можно приписать какой-либо вещи или какому-либо существу...» 3 Таково, как мы видим, общее мнение комментаторов. Если верить им, греческий философ довольно плохо отличал важное от побочного и даже отдавал предпочтение этим двум заведомо второстепенным категориям перед таким противопоставлением, как актив и пассив.
Мы полагаем, что и эти понятия имеют языковую основу. Возьмем сначала хешбеи. Чему может соответствовать логическая категория xeTaOca? Ответ содержится в приведенных примерах: avaxeixai «лежит»; xa6r]xai «сидит». Они представляют собой образцы глаголов среднего залога. Это важнейшая с точки зрения языка категория. Вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, средний залог — понятие более важное, чем пассив, который из него развивается. В глагольной системе древнегреческого языка, в том ее виде, как она сохраняется еще в классическую эпоху, главную роль играет противопоставление активного и среднего залогов 4. Греческий мыслитель мог с полным правом выделить в самостеятельную категорию предикат, который выражается особым классом глаголов, а именно глаголов, имеющих только форму среднего залога (media tantum) и указывающих, в частности, на «положение», «позу». Не сводимый ни к активу, ни к пассиву, средний залог обозначал столь же специфический способ бытия, как и оба других залога.
Подобным же образом обстоит дело с предикатом, названным I/eiv. Его не следует понимать в обычном значении, как «иметь», в смысле материального обладания. Некоторая необычность этой категории, ставя нас сначала в тупик, разъясняется примерами: илобабехсп «обут», шлХютоа «вооружен», и Аристотель вновь прибегает к тем же примерам, когда возвращается к этой теме (в IX главе.«Трактата»), на этот раз он берет их в форме инфинитива: то ояобебзоВса, то (ЬлЖобоч. Ключ к интерпретации заложен в природе этих глагольных форм: олобгбехеи и шяЯютсп — формы
 3 Это высказывание вместе с другими ему подобными приводит Г. П. Кук
3 Это высказывание вместе с другими ему подобными приводит Г. П. Кук
(Н. P. Cooke), полностью с ним соглашающийся, в предисловии к своему изда
нию «Категорий» (Loeb Classical Library).
4 По этому вопросу см. статью в «Journal de psychologies 1950, стр. 121 и ел.,
перепечатанную в настоящем сборнике, стр. 184 и ел.
 |
 перфекта. В строгом смысле слова они представляют собой перфект среднего залога. Но средний залог, как мы только что видели, уже связан с категорией xefcrBai и, между прочим, оба иллюстрирующие ее глагола — dvaxeirm и хаблтоя — не имеют перфектной формы. В предикате же e%eiv и в обеих выбранных для иллюстрации формах акцентирована как раз категория перфекта. Смысл f%eiv — одновременно и «иметь» и, в изолированном употреблении, «быть в определенном состоянии» — наилучшим образом гармонирует с категориальным значением перфекта. Не углубляясь в дальнейшие комментарии, которые легко можно было бы продолжить, подчеркнем только, что для выявления значения перфекта в переводе указанных форм мы должны включить в него идею «обладания»; тогда получаем: олобебетси «он имеет обувь на ногах», wnXiaxai «он имеет при себе оружие». Отметим также, что в соответствии с нашей трактовкой две эти категории следуют в списке одна за другой и, по-видимому, образуют точно такую же пару, как следующие за ними rccueiv «делать» и nioxeiv «испытывать (воз)действие, терпеть, страдать». Действительно, между перфектом и средним залогом в греческом языке существуют многочисленные как формальные, так и функциональные связи, восходящие к индоевропейскому периоду и образующие сложную систему. Например, форма перфекта активного залога уеуото «он родил, она родила» образует пару с формой настоящего времени среднего залога vtyvofiai «рождаюсь, становлюсь». Эти отношения представляли определенные трудности для греческих грамматиков стоической школы: перфект они определяли то как самостоятельное время, napaxeffxevog (букв, «положенное и наличное теперь») или xs^eiog (букв, «достигающий цели, законченный»), то относили его к среднему залогу, выделяя в промежуточный между активом и пассивом класс, названный (хестбтпд «срединный». Во всяком случае, ясно, что перфект не входит во вре
перфекта. В строгом смысле слова они представляют собой перфект среднего залога. Но средний залог, как мы только что видели, уже связан с категорией xefcrBai и, между прочим, оба иллюстрирующие ее глагола — dvaxeirm и хаблтоя — не имеют перфектной формы. В предикате же e%eiv и в обеих выбранных для иллюстрации формах акцентирована как раз категория перфекта. Смысл f%eiv — одновременно и «иметь» и, в изолированном употреблении, «быть в определенном состоянии» — наилучшим образом гармонирует с категориальным значением перфекта. Не углубляясь в дальнейшие комментарии, которые легко можно было бы продолжить, подчеркнем только, что для выявления значения перфекта в переводе указанных форм мы должны включить в него идею «обладания»; тогда получаем: олобебетси «он имеет обувь на ногах», wnXiaxai «он имеет при себе оружие». Отметим также, что в соответствии с нашей трактовкой две эти категории следуют в списке одна за другой и, по-видимому, образуют точно такую же пару, как следующие за ними rccueiv «делать» и nioxeiv «испытывать (воз)действие, терпеть, страдать». Действительно, между перфектом и средним залогом в греческом языке существуют многочисленные как формальные, так и функциональные связи, восходящие к индоевропейскому периоду и образующие сложную систему. Например, форма перфекта активного залога уеуото «он родил, она родила» образует пару с формой настоящего времени среднего залога vtyvofiai «рождаюсь, становлюсь». Эти отношения представляли определенные трудности для греческих грамматиков стоической школы: перфект они определяли то как самостоятельное время, napaxeffxevog (букв, «положенное и наличное теперь») или xs^eiog (букв, «достигающий цели, законченный»), то относили его к среднему залогу, выделяя в промежуточный между активом и пассивом класс, названный (хестбтпд «срединный». Во всяком случае, ясно, что перфект не входит во вре
|
|
|


