 |
В структуре научного исследования
|
|
|
|
В СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В. Гейзенберг

< …> стоит сообщить о беседе с Эйнштейном, происшедшей после моего доклада о новой квантовой механике в Берлине. Берлинский университет считался тогда оплотом физической науки в Германии. Здесь работали Планк, Эйнштейн, фон Лауэ и Нернст. Здесь Планк открыл квантовую теорию, а Рубенс подтвердил ее своими измерениями теплового излучения, и здесь же Эйнштейн в 1916 году сформулировал общую теорию относительности и теорию гравитации. Центром научной жизни являлся физический коллоквиум, который восходил еще к традиции времен Гельмгольца и на который большей частью в полном составе приходили профессора физики. < …> Поскольку тут мне впервые представлялась возможность лично познакомиться с носителями прославленных имен, я не пожалел усилий, чтобы как можно яснее изложить понятия и математические основания новой теории, столь непривычные для тогдашней физики, и мне удалось пробудить интерес некоторых присутствовавших, особенно Эйнштейна. Эйнштейн попросил меня после коллоквиума зайти к нему домой с тем, чтобы мы смогли подробно обсудить новые идеи.
По пути он осведомился о ходе моей учебы и о моих прежних интересах в физике. Однако стоило нам войти в его квартиру, он тут же начал разговор с вопроса, касающегося философских предпосылок моей работы: «То, что Вы нам рассказали, звучит очень непривычно. Вы предполагаете, что в атоме имеются электроны, и здесь Вы, наверное, совершенно правы. Но что касается орбит электронов в атоме, то Вы хотите их совсем упразднить, несмотря на то, что траектории электронов в камере Вильсона можно наблюдать непосредственно. Не могли бы Вы несколько подробнее разъяснить причины столь странного подхода? » Орбиты электронов в атоме наблюдать нельзя, — так примерно отвечал я, — но по излучению, исходящему от атома при разрядке, можно непосредственно заключить о частотах колебаний и о соответствующих амплитудах электронов в атоме. Знание всех колебаний и амплитуд в математическом выражении — это ведь и по понятиям прежней физики может служить чем-то вроде эрзаца знания электронных орбит. Поскольку же разумно включать в теорию только величины, поддающиеся наблюдению, мне казалось естественным допустить лишь эти данные, так сказать, в качестве представителей орбит электронов. Но неужели Вы всерьез думаете, — возразил Эйнштейн, — что в физическую теорию можно включать лишь наблюдаемые величины? А разве не Вы сами, — спросил я в изумлении, — положили именно эту идею в основу своей теории относительности? Вы ведь подчеркивали, что нельзя говорить об абсолютном времени потому, что это абсолютное время невозможно наблюдать: для определения времени значимы лишь показания часов, будь то в подвижной или в покоящейся системе отсчета. Возможно, я и пользовался философией этого рода, — отвечал Эйнштейн, — но она тем не менее чушь. Или, сказал бы я осторожнее, помнить о том, что мы действительно наблюдаем, а что нет, имеет, возможно, некоторую эвристическую ценность.
|
|
|
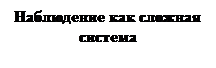 Но с принципиальной точки зрения желание строить теорию только на наблюдаемых величинах совершенно нелепо. Потому что в действительности все ведь обстоит как раз наоборот. Только теория решает, что именно можно наблюдать. Видите ли, наблюдение, вообще говоря, есть очень сложная система. Подлежащий наблюдению процесс вызывает определенные изменения в нашей измерительной аппаратуре. Как следствие, в этой аппаратуре развертываются дальнейшие процессы, которые в конце концов косвенным путем воздействуют на чувственное восприятие и на фиксацию результата в нашем сознании. На всем этом долгом пути от процесса к его фиксации в нашем сознании мы обязаны знать, как функционирует природа, должны быть хотя бы практически знакомы с ее законами, без чего вообще нельзя говорить, что мы что-то наблюдаем. Таким образом, только теория, т. е. знание законов природы, позволяет нам логически заключать по чувственному восприятию о лежащем в его основе процессе. Поэтому вместо утверждения, что мы можем наблюдать нечто новое, следовало бы по существу выражаться точнее: хотя мы намереваемся сформулировать новые законы природы, не согласующиеся с ранее известными, мы все же предполагаем, что прежние законы природы на всем пути от наблюдаемого явления до нашего сознания функционируют достаточно безотказным образом, чтобы мы могли на них полагаться, а следовательно, говорить о «наблюдениях». Например, в теории относительности предполагается, что даже в движущейся системе отсчета световые лучи, идущие от часов к глазу наблюдателя, функционируют в общем и целом точно так же, как от них можно было ожидать и прежде. И Вы в своей теории совершенно очевидно исходите из того, что весь механизм светового излучения, от колеблющегося атома до спектрального прибора или до глаза, функционирует в точности так, как всегда от него ожидалось, т. е., по существу, по законам Максвелла. Не будь это так, Вы вовсе не могли бы наблюдать величины, которые называете наблюдаемыми. Ваше утверждение, что Вы вводите только наблюдаемые величины, есть по сути дела некое предположение о свойстве теории, которую Вы пытаетесь сформулировать. Вы предполагаете, что Ваша теория не затрагивает прежнего описания процессов излучения в интересующих Вас пунктах. Вы тут, возможно, правы, но это никоим образом не достоверно.
Но с принципиальной точки зрения желание строить теорию только на наблюдаемых величинах совершенно нелепо. Потому что в действительности все ведь обстоит как раз наоборот. Только теория решает, что именно можно наблюдать. Видите ли, наблюдение, вообще говоря, есть очень сложная система. Подлежащий наблюдению процесс вызывает определенные изменения в нашей измерительной аппаратуре. Как следствие, в этой аппаратуре развертываются дальнейшие процессы, которые в конце концов косвенным путем воздействуют на чувственное восприятие и на фиксацию результата в нашем сознании. На всем этом долгом пути от процесса к его фиксации в нашем сознании мы обязаны знать, как функционирует природа, должны быть хотя бы практически знакомы с ее законами, без чего вообще нельзя говорить, что мы что-то наблюдаем. Таким образом, только теория, т. е. знание законов природы, позволяет нам логически заключать по чувственному восприятию о лежащем в его основе процессе. Поэтому вместо утверждения, что мы можем наблюдать нечто новое, следовало бы по существу выражаться точнее: хотя мы намереваемся сформулировать новые законы природы, не согласующиеся с ранее известными, мы все же предполагаем, что прежние законы природы на всем пути от наблюдаемого явления до нашего сознания функционируют достаточно безотказным образом, чтобы мы могли на них полагаться, а следовательно, говорить о «наблюдениях». Например, в теории относительности предполагается, что даже в движущейся системе отсчета световые лучи, идущие от часов к глазу наблюдателя, функционируют в общем и целом точно так же, как от них можно было ожидать и прежде. И Вы в своей теории совершенно очевидно исходите из того, что весь механизм светового излучения, от колеблющегося атома до спектрального прибора или до глаза, функционирует в точности так, как всегда от него ожидалось, т. е., по существу, по законам Максвелла. Не будь это так, Вы вовсе не могли бы наблюдать величины, которые называете наблюдаемыми. Ваше утверждение, что Вы вводите только наблюдаемые величины, есть по сути дела некое предположение о свойстве теории, которую Вы пытаетесь сформулировать. Вы предполагаете, что Ваша теория не затрагивает прежнего описания процессов излучения в интересующих Вас пунктах. Вы тут, возможно, правы, но это никоим образом не достоверно.
|
|
|
Я был крайне поражен такой позицией Эйнштейна, хотя его аргументы были мне вполне понятны, и поэтому я переспросил: «Идея, что теория есть, собственно, лишь подытоживание наблюдений по принципу экономии мышления принадлежит, вообще говоря, физику и философу Маху; причем не раз утверждалось, что Вы в теории относительности опирались решающим образом именно на эту идею Маха. Но сказанное Вами сейчас идет, по-видимому, в прямо противоположном направлении. Что же я теперь должен думать, или, точнее, что Вы сами думаете по этому вопросу? »
|
|
|
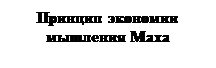 Это очень долгая история, но если Вы желаете, мы можем поговорить об этом подробнее. Понятие экономии мышления у Маха содержит, надо думать, какую-то долю истины, но для меня оно как-то слишком банально. Приведу для начала пару аргументов в
Это очень долгая история, но если Вы желаете, мы можем поговорить об этом подробнее. Понятие экономии мышления у Маха содержит, надо думать, какую-то долю истины, но для меня оно как-то слишком банально. Приведу для начала пару аргументов в
защиту Маха. Наше общение с миром совершается явным образом через наши чувства. Уже когда мы маленькими детьми учимся говорить и думать, мы делаем это за счет возможности обозначить одним словом — скажем, словом «мяч» — очень сложный, но внутренне как-то взаимосвязанный ряд чувственных впечатлений. Мы узнаем слово от взрослых и испытываем удовлетворение от того, что способны объясниться с ними. Мы вправе сказать поэтому, что образование слова и тем самым понятия «мяч» есть акт экономии мысли, поскольку оно дало нам простой способ объединить свои довольно-таки сложные чувственные впечатления. Мах совсем не касается здесь вопроса о том, какими психическими и телесными предпосылками должен обладать человек — в данном случае маленький ребенок, — чтобы начался процесс взаимопонимания. У животных он, как известно, функционирует намного хуже. Но это уже другая тема. Мах полагает, далее, что формирование естественнонаучных теорий — порой очень сложных — происходит принципиально аналогичным образом. Мы пытаемся единообразно упорядочить феномены, свести их к чему-то простому до тех пор, пока не удастся с помощью небольшого числа понятий осмыслить какую-нибудь достаточно большую группу явлений, и «понимание» означает здесь, собственно, не более чем способность охватить это многообразие явлений с помощью немногих простых понятий. Так вот, все это звучит весьма правдоподобно, но следует все-таки спросить, как понять сам принцип экономии мысли. Идет ли здесь речь о психологической или о логической экономии, иначе говоря, идет ли речь о субъективной или объективной стороне явления. Когда ребенок формирует понятие «мяч», достигается ли тут лишь психологическое упрощение, т. е. сложные чувственные впечатления подытоживаются в одном понятии, или мяч действительно существует? Мах, вероятно, ответил бы: «Утверждение, что мяч действительно существует, не содержит ничего, кроме констатации наличия легко обобщаемого комплекса чувственных впечатлений». Но тут Мах неправ. Ибо, во-первых, утверждение «мяч действительно существует» содержит массу высказываний о потенциальных чувственных впечатлениях, которые вероятным образом поступят к нам в будущем. Потенциальное, ожидаемое есть важная составная часть нашей действительности, о которой нельзя просто забыть, замечая один факт. И во-вторых, надо учесть, что умозаключение от чувственных впечатлений к представлениям, к вещам относится к основным предпосылкам нашего мышления, и если бы мы захотели говорить только о чувственных впечатлениях, то сами лишили бы себя языка и мышления. Иначе говоря, тот факт, что мир действительно существует, что в основе наших чувственных восприятий лежит нечто объективное, Мах обходит стороной. Я не собираюсь защищать наивный реализм, я-то уж знаю, какие трудные вопросы тут возникают, однако и понятие наблюдения у Маха мне кажется как-то уж слишком наивным. Мах поступает так, как если бы было уже известно, что означает слово «наблюдать», и поскольку он надеется, что
|
|
|
можно ускользнуть от решения о субъективности или объективности наблюдаемого, то в его понятие простоты и входит столь подозрительно коммерческая черта: экономия мысли. У этого понятия чересчур уж субъективная окраска. В действительности простота законов природы — тоже объективный факт, и тут следовало бы для корректности образования понятия привести субъективную и объективную стороны простоты в должное равновесие. Но это, видать, слишком сложно. Однако вернемся лучше к предмету Вашего доклада. Боюсь, что именно в том пункте, о котором мы сейчас говорили, Вы в своей теории еще встретитесь позднее с трудностями. Объяснюсь точнее. Вы ведете себя так, будто в сфере наблюдения можете все оставить в прежнем виде, т. е. будто Вы имеете право говорить на старом языке о том, что наблюдают физики. Но тогда Вам придется также сказать: в камере Вильсона мы наблюдаем траекторию проходящего через камеру электрона. А в атоме, на Ваш взгляд, никаких электронных орбит уже не оказывается! Это же, согласитесь, очевидная чушь. Нельзя ведь из-за простого уменьшения пространства, в котором движется электрон, отменять само понятие его траектории.
Мне пришлось в меру сил защищать новую квантовую механику: «Пока мы вообще еще не знаем, на каком языке можно говорить о том, что происходит внутри атома. У нас, правда, есть математический язык, т. е. математическая схема, с помощью которой мы можем вычислить стационарные состояния атома или вероятности перехода от одного состояния к другому. Но мы еще не знаем — по крайней мере полностью не знаем, — как этот язык связан с обычным языком. Разумеется, установить эту связь нам необходимо, чтобы иметь хотя бы возможность приложить теорию к экспериментам. Ведь об экспериментах мы всегда говорим на привычном языке, т. е. на языке классической физики. Я поэтому не могу утверждать, что мы уже поняли квантовую механику. Надеюсь, что математическая схема уже в полном порядке, однако ее связь с обычным языком еще не установлена. Лишь когда это удастся, появится надежда описать и траекторию электрона в камере Вильсона, не впадая во внутренние противоречия. Для разрешения описанных Вами трудностей просто пока еще время не подошло».
|
|
|
— Хорошо, пусть будет так, — сказал Эйнштейн, — как-нибудь через несколько лет снова поговорим об этом. Но, кажется, в связи с Вашим докладом я вынужден поставить еще один вопрос. В квантовой теории есть два очень разных аспекта. Она старается учитывать то, что справедливо подчеркивал прежде всего Бор, а именно устойчивость атомов, и предусматривает постоянное воспроизведение одних и тех же форм. С другой стороны, она описывает странную черту прерывности, дискретности в природе, что можно очень наглядно наблюдать, например, когда мы в темноте видим на люминесцентном экране световые вспышки, вызванные радиоактивным препаратом. Разумеется, оба эти аспекта взаимосвязаны. В Вашей квантовой механике Вам приходится учитывать и тот, и другой аспекты. Вы умеете рассчитывать дискретные энергетические уровни стационарных состояний. Таким образом, Ваша теория способна, по-видимому, учитывать стабильность определенных форм, которые не могут беспрестанно переливаться друг в друга, но различаются между собой на конечные величины и явно способны формироваться каждый раз заново. Но что происходит при испускании света? Вам известно, что я попытался выработать представление, согласно которому переход атома с одного стационарного энергетического уровня на другой совершается в некотором смысле внезапно, причем разность энергий испускается в виде пакета энергии, так называемого светового кванта. Если это так, то вот Вам особенно яркий пример вашей прерывности. Считаете ли Вы верным такое представление? Могли бы Вы как-то точнее описать этот переход из одного стационарного состояния в другое?
В своем ответе мне пришлось сослаться на Бора: «Думаю, Бор хорошо показал, что о таком переходе вообще нельзя говорить в старых понятиях, во всяком случае, его нельзя описывать как процесс в пространстве и времени. Этим, конечно, еще очень мало что сказано. Собственно, только то и сказано, что мы тут ничего не знаем. Следует ли мне верить в световые кванты или нет, я решить не могу. Излучение явно заключает в себе момент дискретности, который Вы изображаете с помощью Ваших световых квантов. Но, с другой стороны, есть и явный элемент непрерывности, который дает о себе знать в явлениях интерференции и который проще всего описать с помощью волновой теории света. Конечно, Вы имеете полное право спросить, можно ли от квантовой механики, которая и сама-то пока еще по-настоящему не понятна, узнать что-либо новое в отношении этих устрашающе трудных вопросов. Я лично думаю, что на это, по крайней мере, можно надеяться. Не исключено, что мы получим интересную информацию при изучении атома, состоящего в энергообмене с другими атомами своего окружения или с полем излучения. Тогда можно будет поставить вопрос о колебаниях энергии в атоме. Если энергия меняется скачками, как то предполагается Вашей идеей световых квантов, то колебание, или, выражаясь математически более точно, средний квадрат колебаний будет больше, чем при плавном изменении энергии. Я склонен думать, что, исходя из квантовой механики, мы получим как раз это, большее значение и, следовательно, непосредственно увидим элемент дискретности. С другой стороны, следует ожидать, что мы обнаружим и момент непрерывности, дающий о себе знать в опытах с интерференцией. Возможно, переход из одного стационарного состояния в другое следует представлять себе аналогично тому, как в некоторых фильмах один кадр переходит в следующий. Этот переход происходит не вдруг, а так, что один кадр мало-помалу блекнет, другой медленно всплывает и становится ярче, так что некоторое время кадры накладываются друг на друга и неизвестно, что мы, собственно, видим. Возможно, точно так же существует некое промежуточное состояние, когда неизвестно, находится ли атом на более высоком или более низком энергетическом уровне».
— Теперь, однако, Ваши мысли приняли очень опасное направление, — предостерег Эйнштейн. — Вы вдруг заговорили о том, что мы знаем о природе, а не о том, как природа ведет себя на самом деле. А ведь в естествознании речь может идти только о выяснении того, что реально делает природа. Очень может быть, что Вы и я знаем о природе что-то свое. Но кого это может интересовать? Поэтому, если Ваша теория верна, Вы должны рано или поздно суметь рассказать мне, как ведет себя атом, когда он, излучая, переходит из одного стационарного состояния в другое. Может быть, — ответил я нерешительно. — Однако мне кажется, что Вы слишком жестко пользуетесь языком. Впрочем, признаю, что все мои сегодняшние ответы имели пока характер пустой отговорки. Давайте тогда подождем и посмотрим, как атомная теория будет развиваться дальше.
В. Гейзенберг. Часть и целое. Беседы вокруг атомной физики//
Избранные философские работы: Шаги за горизонт.
Часть и целое. – СПб.: Наука, 2005. - С. 338-345.
Вопросы для самоконтроля:
1. На чем основано убеждение Энштейна, что строить теорию только на наблюдаемых величинах нелепо?
2. Проинтерпретируйте тезис А. Эйнштейна: «только теория решает, что < …> можно наблюдать»?
3. На чем основана критическая оценка А. Эйнштейном основного тезиса философской доктрины Маха – принципа экономии мышления?
|
|
|


