 |
Ментальность и социальное поведение крестьян
|
|
|
|
В длинном ряду проблем истории «великого незнакомца» — крестьянства 1 — менталитет и его социальное поведение относятся к числу наиболее трудно постижимых. Объясняется это. во-первых, тем, чтодля более илименее адекватного их решения необходимо привлечение массовых и прежде всего, неагрегированных источников. Уже сам по себе поиск имобилизация таковых — задача весьма трудоемкая. Кроме того, эти источники требуют применения в той или иной степени сложных методов анализа.
Во вторых, специфическая трудность для историков бывших социалистических стран состояла в том, что указанные проблемы находились под наиболее жесткой опекой официальной идеологии. Разного рода ограничения, неизбежно перераставшие в самоограничения, по всей исследователь-кой «цепочке» — постановка задач, выбор методов их решения, интерпретация полученных результатов в значительной мере обесценивали даже наиболее серьезные попытки их анализа. В результате сознание и политическое поведение крестьянства находили в историографии по большей части весьма упрощенное и одномерное отображение2.
Будучи «настроенным» на схематичное восприятие изучаемых процессов, догматизированное сознание в силу этого объективно предрасположено либо не замечать, либо просто не принимать во внимание их качественную определенность. Отсюда и неадекватность применяемых методов природе анализируемых явлений. Для конкретных доказательств подобной неадекватности применительно к проблемам, вынесенным в название доклада, автор привлекает свои разработки по такому крупному аграрному региону европейской части Российской империи как Белоруссия. Материалы по агитации и пропаганде и об отношении к ним участников социальных конфликтов в белорусской деревне в период между революцией 1905/07 гг. и первой мировой войной представляют собой фрагмент многолетнего исследования,
|
|
|
Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия. Сост. Т. Шанин. М., 1992.
Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. Киев, 1990. С. 62; Mironov В. N. Poverty of Thought or Necessary Cauntion? // Russian History. Cadif. St. Univ., Bakersfield. Vol. 17. № 4. 1990. P. 427-435; Аграрная эволюция России и США в XIX — нач. XX в. М., 1991. С. 10; Россия и США на рубеже XIX - XX вв. М., 1992. С. 253.
183
подготавливаемого в настоящее время к печати. С точки зрения задач, обозначенных выше, и сложившейся историографической ситуации1 они в достаточной мере репрезентируют Европейскую Россию в целом.
* * *
Описание наиболее ярких примеров революционной агитации в деревне — абсолютно непременная составляющая исследований по крестьянскому движению. Однако, поскольку в данную эпоху число подобных фактов представляло уже более или менее статистически значимые величины, то наряду с отдельными иллюстрациями совершенно уместными были бы и какие-то разновидности количественного подхода. Резко увеличивая объем извлекаемой из источников информации, последний, в итоге, намного расширяет возможности сущностного познания. В любом случае без него просто не обойтись, если, конечно, мы вообще пытаемся искать, по выражению Дж. Шапиро, какой-либо «способ измерять субъективное и вводить его в историю»2.
Вот с этой целью и обратимся поначалу к имеющимся у автора сведениям об устной политической агитации среди крестьян Белоруссии в 1907— 1914 гг. В силу специфики способа ведения и по причине того, что осуществлялась в большей степени силами самих крестьян и рабочих: сохранявших связи с деревней, она в значительной мере, нежели печатная пропаганда, испытывала «нормативное» унифицирующее воздействие политических партий и организаций.
|
|
|
Очевидным проявлением роли первой российской революции как аккумулятора интересов деревни к политическим вопросам следует считать то, что в условиях наступившей после нее изоляции от революционных партий крестьяне смогли вести политическую агитацию в немалой степени уже собственными силами. Если в дореволюционный период отдельные из них выражали свою враждебность к царю, чиновникам и священникам в основном лишь в форме, так сказать, политико-бытовой ругани, то теперь подобные высказывания в несравненно большей степени соответствовали уже понятию «политическая агитация», ибо касались основных вопросов политического строя и производственных отношений. Весьма показательны в этом
Керножицкий К. И. К истории аграрного движения в Белоруссии перед империалистической войной. Минск, 1932 (на белорусском языке); Солодков Т. Е. Борьба трудящихся Белоруссии против царизма (1907—1917). Минск, 1967; Липинский Л. П., Лукьянов Е. П. Крестьянское движение в Белоруссии в период между двумя революциями. Минск, 1964; Липинский Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. Минск, 1978; Он же. Классовая борьба в белорусской деревне 1907—1914. Минск, 1981; История Белорусской ССР. Т. 2. Минск, 1972. (на белорусском языке). С. 450—458,505—512 и др.
Цит. по: Шпотов Б. М. Проблемы методологии истории на страницах «Journal of Social History»// THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Весна 1993. Т. 1. Вып. 2. М., 1993. С. 237.
184
смысле высказывания крестьянина д. Лубницы Могилевского уезда Ф. Те-лепнева. «Нам царя не нужно, — говорил он односельчанам осенью 1910 г., — я сам такой же царь! Я бы лучше его управлял»1. Губернатор, исправник и прочее начальство, живущее за счет крестьянства, также не нужны, утверждал Ф. Телепнев, А что, по его мнению, крестьянству нужно, так это «избрать свое начальство и своего царя, которые будут служит не за жалование, а за честь!» Крестьянин же д. Иозефово Высочанской волости Оршанского уезда Могилевской губернии М. Малащенок, называя в марте 1910 г. царя кровопийцей, выражал уверенность, что у власти он не удержится, так как «весной будет революция» и тогда царь «узнает как мы будем его отстаивать»2.
|
|
|
Однако, в отличие от предыдущего примера в последнем случае запал «агитатора» в большей мере исчерпывается лишь отрицанием существующего положения. Позитивная же программа исчерпывается эмоциональной заостренной фразой, что по нему царь «пусть будет хоть собака, лишь бы мне хорошо жилось»3. Но все же и здесь точка зрения «агитатора» по наиболее деликатному для крестьянского политического сознания вопросу — об отношении к монархическому государственному устройству — ясна: главой государства (по инерции — царем) может быть каждый, кто в состоянии обеспечить людям хорошую жизнь.
Большая инициативная роль в деле политической агитации принадлежала рабочим, вернувшимся в свои родные деревни, крестьянам-отходникам, а также бывшим солдатам и матросам, участвовавшим в революции, или испытавшим ее воздействие. Так, высланные в свое родное с. Люшнево Слонимского у. Гродненской губ. крестьяне В. Пугач и А. Воробей, работавшие в 1908 г. на железных дорогах в Черниговской и Могилевской губ., устраивали политические собрания, где, в частности, разучивали с молодежью села «Вставай, поднимайся рабочий народ» и др. революционные песни4. Возвратившийся на родину из Одессы крестьянин д. Петришки Бочинской вол. Дисненского у. Виленской губ. Л. Антонов агитировал односельчан к неповиновению властям5. Также не повиноваться властям и отнимать у помещиков землю агитировал крестьянин д. Лихосельцы Пружанского у. Гродненской губ. их односельчанин, вернувшийся из Тифлиса6. Крестьянин д. Верхние Жары Речинского у. Минской губ. был в свое время матросом «Потемкина», участвовал в восстании. По возвращении после службы в де-
1 ЦГИА Украины. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2222. Л. 1 об.
2 Там же. Ф. 317. Оп. 1. Д. 1153. Л. 1.
Там же.
Революционное движение в Белоруссии (1907—1917). Минск, 1987. С. 128.
5 ЦГИА Литвы. Ф. 446. Оп. 1. Д. 1153. Л. 1.
6 Там же. Ф. 378. Оп. 1908. Д. 3. Л. 21.
185
ревню занимался революционной агитацией, устраивал политические собрания крестьянской молодежи2.
|
|
|
На что суммарно нацеливала белорусских крестьян в рассматриваемый период политическая агитация»?
Наиболее определенным ответ на этот вопрос может стать, если обратиться к такому широко практикуемому в сопредельных гуманитарных науках и достаточно уже известному в истории методу как контент-анализ2. В данном случае речь конкретно должна идти о том, чтобы с его помощью учесть все поднимавшиеся в ходе агитации темы. Полный их набор и структурные соотношения дадут наглядное представление о ее направленности.
В системе контент-аналитических понятий «тема» занимает место среди категорий анализа, т. е. наиболее общих, ключевых понятий текстового массива, соответствующих исследовательским задачам. Признаками, или индикаторами ее в тексте могут выступать отдельные слова, суждения, простые предложения и т. д.3
Всего в результате предпринятых поисков в архивах, сборниках документов, литературе автором было выявлено 80 конкретно описанных случаев устной политической агитации в белорусской деревне 1907—1914 гг. 4 Для определения набора тем в этой совокупности был применен изложенный методический подход.
Прежде всего отметим выявление пяти ведущих тем, которые в статистическом выражении являются как бы стержнем содержания агитации. На первом* месте среди них находятся призывы к отказу от уплаты налогов и
Революционное движение в Белоруссии (1907—1917). С. 128.
О контент-анализе в социологии и истории см.: Рабочая книга социолога. М., 1977. С. 321—332; Бородкин Л. И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. М., 1986. С. 138—160; Миронов Б. Н. История в цифрах. Л., 1991. С. 14—29; Социологический словарь. Минск, 1991. С. 75—79.
Бородкин Л. И. Указ. соч. С. 139; Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 15, 16; Социологический словарь. С. 75, 76.
4 ЦГАОР России. Ф. 102. ДП. 00. Он. 1908. Д. И. Т. 1. Л. А. Ч. 3. Л. 279. VII д-во, 1913. Д. 1076. Л. 1, 12; Д. 1564. Л. 1, 8; 1914. Д. 5. Ч. 21. Л. 15; Д. 860. Л. 1; Ф. 124. Он. 47. Д. 812. Л. 6; Д. 813. Л. 6; ЦГИА России. Ф. 1405. Оп. 110, 1907. Д. 4754. Л. 24. Оп. 521. Д. 465. Л. 272; Д. 467. Л. 129; Д. 468. Л. 356; Оп. 530. Д. 770. Л. 15; ЦГИА Украины. Ф. 317. Оп. 1. Д. 4972. Л. 1, 12; Д. 5227. Л. 4-4об.; Д. 5267. Л. 2-2об; Д. 5335. Л. 3; Ф. 318. Оп. 1. Д. 2134. Л. 10; Д. 2213. Л. 2; Д. 2216. Л. 2; Д. 2220. Л. 18-18об; Д. 2222. Л. 1об; Д. 2226. Л. 2, 2об; Д. 2292. Л. 1-1об, 19-19об; Д. 2350. Д. 2, 18 - 18об; ЦГИА Литвы. Ф. 378. Оп. 1907. Д. 77. Л. 10; Оп. 1908. Д. 1. Л. 81; Д. 3. Л. 21; оп. 1909. Д. 141. Л. 1; Оп. 1910. Д. 5. Л. 6; Ф. 419. Оп. 1. Д. 780. Л. 3; Ф. 446. Оп. 1. Д. 1153. Л. 1; Д. 1230. Л. 1; Д. 1231. Л. 1; Д. 1239. Л. 1; Крестьянское движение в России в 1907—1914 гг. М.—Л., 1966. С. 516,519, 521; Революционное движение в Белоруссии (1907-1917). Минск, 1987. С. 36, 75, 76, 93, 94,128,129,144-145, 207-208; История рабочего класса Белоруссии. Т. 1. С. 305; Липинский Л. П., Лукьянов Е. П. Крестьянское движение... С. 105, 157, 168; Липинский Л. П. Классовая борьба..., С. 56—59, 64, 65, 82, 83, 91, 102,103,113; Солодков Т. Е Указ. соч. С. 122,152,251,254-255.
|
|
|
186
выполнения различных повинностей — прежде всего воинской. Эта тема отмечается в 26 случаях (32,5% от 80 случаев). Несколько уступают ей по частоте призывы к неповиновению властям и законам — 23 случая или 28,8%, — а также разного рода выражения уверенности в предстоящем свержении самодержавия, либо суждения о необходимости такого свержения — 22 случая или 27,5%. Лишь немногим уступали по встречаемости этим двум темам призывы к захвату помещичьей земли и имущества — 19 случае (23, 8%). 18 раз (22,5%) встречаются персональные обличения и оскорбления царя, оценки его как «кровопийцы», «собаки», «душегуба», «изверга», «живодера» и т. д., умеющего только «нашу кровь пить, да шкуру лупить»1. Некоторые агитаторы при этом не останавливались перед призывами физически уничтожить не только самого царя, но и «весь царствующий дом». Такую меру обосновывали перед своими односельчанами, например, крестьянин д. Кос-тюки, Заболотской вол. Бобруйского у. Минской губ. Муравицкий и крестьянин д. Осовницы Кобринского у. Гродненской губ. Жарницкий (соответственно в апреле 1909 и в феврале 1908 г.)2.
По поводу последних примеров нелишне заметить, что «сценарий», весьма напоминающий зверскую расправу 1918 г. в Екатеринбурге, как видим, откровенно обсуждался еще за десять лет до ее осуществления. Причем не террористами-революционерами, а крестьянами самой что ни на есть «глубинки». Да еще и не в пору революционной вольности, а в условиях, мягко говоря, небезопасных для публичных излияний на эту тему. Но можно ли считать бытование подобных «тем» агитации чем-то «запредельным» для страны, где даже в эти «мирные» годы многие сотни людей гибли в результате социальных конфликтов или репрессий властей?! Приведенные факты, между прочим, лишний раз свидетельствуют и о том, насколько наша историческая публицистика мало настроена на реалистичное восприятие исторической «почвы».
Встречаемость остальных тем агитации была следующей. Выборность государственных чиновников — 10 (12,5%). Требование республики встречается 4 раза (5%). Также в 4-х случаях говорится о выборах президента. Высказывания против духовенства — 4, суждения о ненужности правительства вообще — 2 (2,5%), высказывания о ненужности любых законов — 1 (1,3%), призыв к сельскохозяйственным забастовкам — 1, мнение о необходимости сокращения жалования сельским властям — 1. Таким образом, по удельному весу в совокупности случаев агитации все последние темы, за исключением выборности, эпизодичны.
1 ЦГИА Украины. Ф. 318. Оп. 1. Д. 2220. Л. 18; Д. 2226,Л. 2. ЦГИА Литвы. Ф. 446. Оп. 3. Д. 1094. Л. 1, 2; Революционное движение в Белоруссии (1907-1917). С. 75.
187
Приведенный расклад тем агитации много дает для понимания важнейших сущностных сторон политического сознания ее субъектов. В частности, достаточно выпукло проявляется его доминантная деструктивность, Нема-ловажно и то, что он (расклад тем) позволяет перевести из рефлексивной плоскости в эмпирическую рассмотрение одной весьма дискуссионной на протяжении последних десятилетий проблемы. Речь идет о том, насколько вообще борьба крестьянства на протяжении истории была борьбой «за» и насколько — «против». В самом деле, выделенная совокупность тем представляет собой политическую программу, обращенную к широким кругам крестьянства. Ее революционность очевидна и сама по себе не столь интересна. Гораздо более интересен ее рельефно проявившийся дисбаланс: агитаторы, призывая крестьян к борьбе против самодержавно-помещичьего строя, в несравненно меньшей степени говорили о борьбе «за». Ведь отмеченные пять ведущих тем — это все как раз «против», а «за» представлено лишь единственной неэпизодичной темой — выборностью госаппарата.
Слабая «эшелонированность» программы особенно хорошо просматривается, если выстроить «цепочку» соотношений тем типа «против» и тем типа «за». Так, например, призывы к демократическому переустройству страны выдвигались агитаторами либо в форме «против» — свержение самодержавия, либо в форме «за» — выборность госаппарата. Первая тема, как отмечалось, встречается 22 раза, тогда как вторая — только в 10 случаях. А если от лозунга выборности госаппарата перейти к конкретизирующему требованию о введении в будущей России республики, то последнее отмечено всего лишь в 4 случаях. Это свидетельствует о том, что и в рассматриваемый период идея республики продвигалась в сознание крестьян крайне тяжело. Та же картина получится, если в данной «цепочке» республику заменить на выборность главы государства1: 22 — 10 — 4. Таким образом, статистические соотношения «за» и «против» определенно подтверждают сделанный выше вывод о доминантной деструктивности политического сознания участников агитации, равно как и предлагавшейся ими крестьянам «программы».
Итак, насколько мы могли убедиться, продемонстрированный на материале политической агитации подход позволяет получить конкретный ответ на вопрос, являвшийся одним из краеугольных в дискуссиях 60-х — 80-х годов о крестьянстве.
* * *
Будучи обреченными на состояние своеобразной «острой теоретико-методической недостаточности» проблемы ментальное™ и социального поведения крестьян так или иначе находились все же в поле исследовательского
В практике агитации выборность главы государства и республика — темы автономные.
188
внимания. А вот с синхронным изучением той и другой «в связке» дело обстояло и до сих пор обстоит совсем из рук вон плохо1. Между тем, имеющийся опыт свидетельствует, что при таком подходе наблюдается отнюдь не какое-то простое сложение эвристических потенциалов изучаемых аспектов, а их, как бы, умножение. В результате высвобождается «скрытая» (структурная) информация, способная порой, как будет показано ниже, просто опрокинуть прочно устоявшиеся представления.
Как уже отмечалось, основная цель рассмотренных выше случаев устной политической агитации в белорусской деревне состояла в том, чтобы дать побудительные мотивы крестьянскому движению. На те же задачи, только в политически более систематизированной и теоретически обоснованной форме, была ориентирована и печатная пропаганда. В общей сложности автором выявлен 61 случай распространения листовок, газет, брошюр левых партий и организаций в селениях Белоруссии за период с 1907 по 1914 г.2
Коль цель политической пропаганды и агитации заключалась в том, чтобы дать импульс крестьянскому движению, то нельзя не задаться вопросом — а достигалась ли она? Утверждения о том, что так или иначе достигалась — довольно часто встречаются в нашей историографии. С полной определенностью об этом, в частности, говорится в упоминавшихся выше работах Л. П. Липинского, Е. П. Лукьянова, Т. Е. Солодкова3 Но, пожалуй, еще чаще последнее даже и не утверждается специально: оно просто дается как что-то само собой разумеющееся. Однако, непонятно, что же является источником такой уверенности? По крайней мере, автору этих строк неизвестны работы, в которых данный вопрос изучался бы конкретно.
Проследим, насколько политическая пропаганда и агитация побуждала к движению крестьян Белоруссии. Для этого автором был составлен именной список селений, в которых, по имеющимся данным, в указанное семилетие зафиксированы случаи политической пропаганды и агитации. В нем оказалось в общей сложности 131 селение4. Затем он был сопоставлен с соз-
Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения... С. 218.
2 ЦГАОР России. Ф. 102. ДП. IV д-во. Д. 40. Ч. 1. Л. 68, 69; VII д-во. 1913. Д. 1443. Л. 5; Д. 1909. Л. 1, 2, 7; ЦГИА Украины. Ф. 317. Он. 1. Д. 4477. Л. 2; Д. 4500. Л. 1; Д. 4749. Л. 1, 2; Д. 5311. Л. 1; Ф. 318. Оп. 1. Д. 1957. Л. 2, 17 об.; Д. 1958. Л. I—II; ЦГИА Литвы. Ф. 378. Он. 1908. Д. 3. Л. 15-16; оп. 1909 г. Д. 141. Л. 1; Ф. 446. Оп. 3. Д. 936. Л. 1-2; Оп. 4. Д. 864. Л. 4, 5. Документы и материалы по истории Белоруссии (1900—1917). Т. III. Минск, 1953. С. 652—653; Революционное движение в Белоруссии 1905—1907 гг. Минск, 1955. С. 653—656; Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. М.-Л., 1966. С. 353, Ш9, 528, 537; Революционное движение в Белоруссии (1907-1917). С. 31-33,43,44,46, 80, 81, 129; Липинский Л. П. Крестьянское движение... С. 103,105,128,135; Он же. Классовая борьба... С. 52, 54—57, 63—65, 67,70,83,116; Солодков Т. Е. Указ. соч. С. 122,125.
Липинский Л. П., Лукьянов Е. П. Указ. соч. С. 144; Липинский Л. 77. Классовая борьба... С. 83; Солодков Т. Е. Указ. соч. С. 248.
См. ссылки 14 и 19.
189
данным ранее таким же именным списком из 940 селений, участвовавших в этот период в крестьянском движении. Результаты таковы: из 131 селения, в которых велась агитационно-пропагандистская работа, крестьянские выступления произошли в течение семи лет в четырнадцати из них, что составляет 10,7%. Причем из этих 14 селений лишь в 10 выступления произошли под ее несомненным воздействием. А в 117 селениях из 131, т. е. в 89,3% не зафиксировано за весь период вообще ни одного выступления.
Таким образом, перед нами две совокупности населенных пунктов. Для наглядности представим их в графической форме (см. рис. 1).
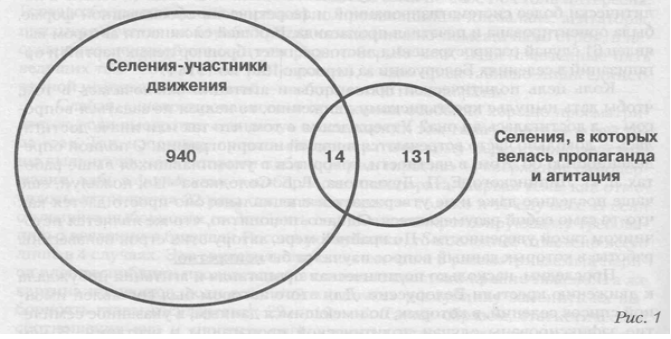
Как видим, окружности при наложении только едва «касаются» друг друга. Причем в действительности совместная их «зона» состоит даже не из 14, а, как отмечалось, из 10 селений. Это составляет лишь ничтожные 1,1% от числа селений-участников движения и 7,6% совокупности «агитируемых»!
В принципе столь незначительный «коэффициент эффективности» агитации — 7,6% — можно было бы интерпретировать как само собой разумеющийся. Мол, обстановка послереволюционной реакции с ее режимом «усиленной охраны» и «обязательных постановлений» оставляла агитаторам немного шансов преуспеть. Объяснению такое, повторюсь, дать можно было бы..., но, естественно, лишь в случае отсутствия в эти годы реального крестьянского движения. Однако таковое ведь присутствовало, причем — далеко не в микроскопическом масштабе! Следовательно, напрочь отпадает и возможность объяснение удивительно низкой эффективности агитацион-
190
но-пропагандистской работы в деревне преимущественно унынием крестьян или страхом репрессий.
Картина, открывавшаяся в результате предпринятых исследовательских процедур, своей неожиданностью в чем-то способна вызвать своего рода «эвристический шок». Прежде всего, в соответствии с существующими в историографии «установками восприятия» нонсенсом выглядит практически полная нестыкуемость политической агитации и реального крестьянского движения. В самом деле, ситуация, при которой реальное движение отсутствовало именно там, где велась агитация, и наличествовало там, где ее не было — парадоксальна уже сама по себе. Особенно — учитывая, что предшествующие годы революции дали как в целом по России, так и в Белоруссии, первое политическое движение значительной части крестьянства. Во-вторых, парадоксальна ома и как статистическая тенденция со столь высокой, близкой к предельной, мерой выражения: если нарушениям социального порядка в 98, 9 % случаев не предшествовала какая-либо политическая агитация, то крестьяне агитируемых селений, напротив, в 92, 4 % случаев не шли на его нарушение.
Радикально изменяя ситуацию в историографии проблемы, приведенные здесь эмпирические разработки проливают новый свет и на ряд смежных вопросов социальной истории дооктябрьской России. Возьмем, к примеру, проблему воздействия на деревню и, в частности, на крестьянское движение, революционных партий. Начало тенденции к явному завышению степени этого воздействия относится еще к дооктябрьскому периоду.
Тогда общественное мнение, впечатленное революционизированием значительной части крестьянства в 1905/07 гг., по «инерции» экстраполировало партийное влияние и на постреволюционную деревню. Между прочим, культивировала это заблуждение не только левая часть политического спектра, но и их правые «визави». Последние обвиняли левых в том, что те инспирировали крестьянское движение если не организационно, то идейно. Советская историография пошла в том же направлении, завышая прямо или косвенно, как уже отмечалось, уровень воздействия левых партий и организаций на крестьянство. Разумеется, в той или иной степени «смещая» при этом идейные акценты: с неонароднического — на большевистский.
Так вот, проведенное исследование показывает необоснованность претензий революционных партий даже на инициирование, не говоря уже о руководстве, сколько-нибудь весомого количества крестьянских выступлений в рассматриваемый период. Соответственно более чем очевидной становится несостоятельность обвинений со стороны правьй: в инспирировании движения.
Между прочим, в свете полученных данных повисают в воздухе и аналогичные обвинения правых в адрес революционно настроенной интеллигенции. Последняя действительно прилагала усилия — и немалые — для революционизирования деревни. Однако, ввиду более чем скромных, как мы
191
могли убедиться, «конечных результатов» этой деятельности, данное обвинение следует, очевидно, признать неправомерным. Автор даже возьмет на себя смелость высказать предположение, что соответствующие материалы по другим регионам империи также позволили бы «снять» с российской левой интеллигенции этот «грех».
Материалы по социальным конфликтам в белорусской деревне, мобилизованные для данного исследования, свидетельствуют о том, что и после поражения революции 1905/07 гг., в условиях реакции и проведения новой аграрной политики крестьянство определенно сохранило способность действовать в борьбе за свои интересы как объединенная осознанием принадлежности к одному «мы» социально-психологическая общность. Понятно, что в последнюю естественным образом не могли включаться те, кто, если использовать образ Т. Шанина, «носил униформу, меховые шубы, золотые очки»1. Принципиально важно здесь, что, казалось бы вопреки «логике», линейно выводимой многими тогдашними и современными исследователями из 1905 года, в это «мы» определенно не включались и те, кто — отнюдь не обладал перечисленными аксессуарами — просто, к примеру, складно говорил. Даже если при этом он говорил о необходимости увеличения крестьянских земельных наделов! Вот почему столь удивительно низким оказался выявленный коэффициент эффективности революционной пропаганды в деревне: реальное крестьянское движение подпитывалось собственными мотивами; мотивации же, предлагавшиеся агитаторами, как правило, не воспринимались крестьянами.
* * *
Известный французский историк Э. Ле Руа Ладюри двадцать лет назад, оценивая значение ставшей впоследствии знаменитой книги Р. Фогеля и С. Энгермана об экономике рабства в США, назвал ее уроком революционизирования самого способа исследования. Уроком, который для историков Европы должен стать поучительным, если они не хотят обнаружить однажды «в своем багаже запас слегка обесцененных знаний»2. Тем более актуальным представляется подобный призыв для советской и постсоветской историографии социальной истории. Догматизм и схематизм во многом приучили ее обходить вниманием те аспекты и вопросы, разработка которых могла таить в себе опасность получения результатов, неприемлемых или в лучшем случае «нежелательных» с точки зрения официальной идеологии и теории исторического познания. Вызовы времени, равно как и имманентные закономерности развития науки, ставят ее перед необходимостью возвращения к
Т. Shanin. Defining Peasants. Essays concerning Rural Societie Expolary Economies, and Learning from then in them Contemporary World. Oxford: Basil Blackwell, 1990. P. 170—187. 2 Э. Ле Руа Ладюри. Застывшая история // THESIS... 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 158-159.
192
этим проблемам. Надо сказать, что современные западные социальные историки рассматривают свою дисциплину как самую динамичную и честолюбивую сферу исторической науки1. Это обстоятельство должно, очевидно, послужить дополнительным импульсом к проведению своего рода «ревизии» и коренной реформы принципов и методов изучения социальной истории деревни, к верификации тех умозрительных и схематичных представлений, которые в немалом числе бытуют еще в нашей историографии.
Зелдин Г Социальная история как история всеобъемлющая. // THESIS... Зима 1993. Т. 1. вып. 1.М., 1993. С. 154-162.
193
Э. М. Вернер
(США, Иллинойский университет Урбана-Шампейн)
|
|
|


